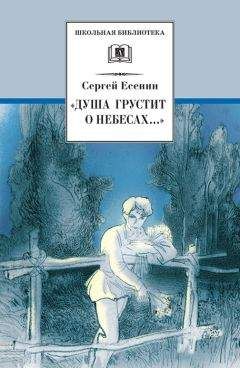Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
28 декабря 1919 Ромны
Глазетовый гробик (19 ноября 1889)
Убогая комната в синих цветочках,
Глазетовый беленький гроб,
Вокруг гиацинты в пурпурных горшочках,
Чуть слышен гниенья микроб.
Кузены в мундирчиках подле окошка
Мамашин едят шоколад,
Она же, спокойная белая крошка,
На новый настроена лад.
Лежит она тихо с оранжем из воска
На темных, тяжелых кудрях,
Как девочки маленькой грудь ее плоска
И ручки ныряют в шелках.
И в белых ботиночках детские ножки
Наивно из кружев глядят,
Как будто о жизни терновой дорожке
Они вспоминать не хотят.
И маленький мальчик в мундире зеленом
Глядит в этот маленький гроб
И, что-то с вопросом шепча напряженным,
Ручонкой схватился за гроб.
Затем к гиацинтам придвинул он пряным
Высокий обеденный стул
И с сердцем замершим почти бездыханным
В лицо отошедшей взглянул.
В лицо, где вчера еще очи Христовы
Он видел на смертном кресте,
Где страшный румянец горел пурпуровый
И ужас на каждой черте.
Но чудо свершилось – и нет и подобья
Того, что он видел вчера,
И Ангел Луки перед ним делла Роббья
Глядел из лебяжья пера,
Из крыльев на шелковой гроба подкладке,
Незримых, но зримых ему,
И лик ее детский, невинный и сладкий
В алмазов был вставлен кайму,
Как лики святых в византийской иконе,
И мрамора был он нежней
И тучек жемчужных в ночном небосклоне
Приветливей и веселей.
И мальчик в ответ улыбнулся мамаше
И слезки утер рукавом.
– Зачем же мне плакать. Скажу тете Маше
Об Ангеле-маме моем.
С тех пор не могли ему люди проказу
Служения плоти привить, –
И духа его не свернулась ни разу
В лазурь устремленная нить.
19 декабря 1919
Хрусталевый бокал (1896)
I
В буфете бабушки бокальчик
Был узкостанный для Шампаня,
И жил у ней печальный мальчик
И курская старушка няня.
Был тот хрусталевый бокальчик
Старинной марки «баккара»,
Был Парками разбужен мальчик
У гроба мамочки с утра.
Были Евангелием няня
С бабусей вечно заняты;
По бедности струя Шампаня
В беззубые не лилась рты,
И только изредка в рождений,
В Сочельника и Пасхи дни
Им Шабо кисловатый гений
На лицах зажигал огни.
Но лучших дней слыхал бокальчик
Заздравий громовые тосты,
Когда отец еще был мальчик
И девственны еще погосты.
Меж всякой рухлядью стеклянной
Сиял он золотым кольцом,
И рядышком стаканчик странный
Стоял с несъеденным яйцом,
Которое отец-покойник
Перед агонией просил
И обронил на рукомойник, –
С следами выцветших чернил.
Но долго страшен был малютке
Дубовый, старенький буфет:
Там был резной орнамент жуткий,
Хранитель маминых конфект.
Из стилизации грошовой
Чьего-то жалкого резца
Два грозных, пасмурно-суровых
Глядело колдовских лица.
И часто под вечер мальчонок
Буфетных опасался врат
И, крест слагая из ручонок,
Шептал испуганно: Свят, свят!
II
Однажды после смерти мамы
Читал он в детском «Дон-Кихоте»
Страницы о тобозской даме
И засмеялся, – смехом кто-то
Ему ответил серебристым
Из бабушкиного буфета;
Он громче засмеялся, – чистым
Созвучием, как эстафета,
Ответила ему мгновенно
Сочувственная там душа;
Он оглянулся изумленно
И подошел чуть-чуть дыша,
И ручкой с замираньем сердца
Он сделал оборот ключом, –
И широко раскрылась дверца,
А солнце золотым лучом
По хрусталю и по фарфору
Влюбленно как-то заиграло,
Но перепуганному взору
Не ново всё, – и всё молчало.
«Что это, что?» – спросил он звонко
И меж стаканами искал,
И вдруг затрепетал в сторонке
И зазвенел в ответ бокал.
Тогда он взял его в ручонки
И прошептал: Так ты живой!
И отвечал бокальчик звонко:
– Мой милый мальчик, я живой!
Не оставались без ответа
Ни смех, ни слезы мальчугана, –
На всё ответил из буфета
Дискант серебряный стакана.
В прозрачного влюбленный друга,
Мальчонок забывал печаль,
И многие часы досуга
Делил с ним бабушкин хрусталь.
И первых песен примитивных
Он звонко повторял рефрены,
Таких мелодиек наивных
Струя не пела Ипокрены.
III
Прошло пять лет. И в полдень майский
Бабуся душу отдала
Создателю, – к чертогам райским
Взвились два черные крыла.
И при раскрытых настежь окнах
Соседки обмывали труп,
В серебряных ее волокнах
Гребня струился черный зуб.
И черные уже обмотки
Гробовщики на зеркала
Навесили, – делили тетки
Реликвии вокруг стола.
С улыбкой странною на губках
Ходил окаменелый мальчик,
Дробь барабанную на зубках
Его подхватывал бокальчик.
Весь день в засохнувший лимончик
Лица бабуси он, застыв,
Глядел, – и звонче всё был, звонче
В шкафу хрусталевый отзыв.
В мундирчик облачен зеленый,
Обшитый ярким галуном,
Сидел он, бледный и бессонный,
При свечах в сумраке ночном
И рисовал в своей тетрадке
Усопшей бабушки профиль,
Вдыхая гиацинтов сладких
Клубящую у гроба пыль.
И было жутко так и тихо,
Что сердце, как безуздый конь
В галопе, уносилось лихо,
И на щеках горел огонь.
И с ясностью необычайной
Залитых полуднем картин
Он шпагою скрестился с Тайной
И вскликнул: Я один! один!
И не серебряный уж мальчик
Во всклике слышался печальном,
И в первый раз ему бокальчик
Не вторил голоском хрустальным.
IV
И приютил меня, сиротку,
Кузен покойный мой Лоло,
Отменно честный, тихий, кроткий,
Со мной любимое стекло.
И жил бокальчик неразлучно
Три года у него со мной,
Всегда прозрачный, но беззвучный,
Какой-то тихий и больной.
И долго, долго, безутешен,
Я украшал его цветами,
Ромашкой белой и черешен
В апреле белыми ветвями.
И сам я тихий стал и гибкий
И мягкий, как лионский шелк,
И в первый раз мой голос зыбкий,
Как летом озеро, умолк.
И только бледная головка
Чужие поглощала сказки,
И мысль, как Божия коровка,
В оконные стучалась связки.
Однажды перышком по краю
Я стукнул тихо хрусталя:
«Ответь мне, друг, я умираю,
Мне опостылела земля!»
И голосок ответил жалкий:
«Оставь, я умер, не звони!
Поставь мне в горлышко фиалки
И, помолясь, похорони!
Я детство, детство золотое,
Но безвозвратное твое,
Теперь ты всё одень стальное
И острое возьми копье!
Стань рыцарем мечты Господним,
Твори страдая и борись,
Будь одиноким и свободным
И смело устремляйся ввысь!»
И оборвался серебристый
Бокальчика вдруг голосок,
И трещинки его змеистой
Покрыл алмазный волосок.
V