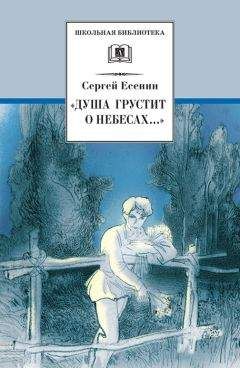Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
III
Но вдруг поникла голова
Его в недоуменьи странном,
Когда в лучами осиянном
Он поперечном корабле
Сияющий в вечерней мгле
Увидел шаловливый круг
Крылатых херувимов вдруг.
Чрез настежь отпертый портал
Вливался пламенный металл
Заката алыми снопами,
И меж суровыми столпами
На нежный орнементный тюль
Ложился, как червонный июль
Пылающим от страсти телом
По колосящимся наделам…
От золотой его пыли
Кадильниц синие струи
Казались слабым ореолом
Над одуховленным шеолом,
И лики скорбные святых
Неслышный излучали стих…
Но в сердце алого потока
Двенадцать херувимов полных,
Меж пышных путаясь гирлянд,
Цветочные зыбящих волны,
Несли усопший бриллиант
На зодчим изваянном ложе,
Что на алтарь было похоже.
Но почему она, о Боже,
В гробу как спящая лежит?
Под мраморным она брокатом,
Одушевленная закатом,
В гирлянде пухлых херувимов
Века лежит уж недвижимо,
И верный песик сторожит
У ног заснувший маргерит.
Какая сладость в дивном лике,
Какие пламенные блики
Скользят по форме гениальной!
Лишь серафим ее опальный
Своим божественным резцом,
Сойдяся с вечностью лицом,
Мог изваять в молитвы час,
Лишь вечности лазурный глас;
И вечности лазурной сердце
Любил угрюмый Яков Кверчья.
Заснувшую последним сном
Жену владыки-кондотьера
Очаровательным резцом
В плите холодной из Каррары
Приворожил ваятель старый.
Какая мощь! Какая вера!
Бессмертье зримо в этом лике;
Покой сошел, покой великий
На красивейшую из жен!
И юноша ошеломлен
Стоял пред ней, впиваясь в бронзу
Перил горячих… Солнцу, солнцу
Заснувшему казался сон
Ее подобен, чрез виссон
Глянувшему атласных туч!
Сухой кокошника обруч
В волнах кудрей как ореол
Сверкал промеж лучистых пчел,
Вокруг кружившихся заката.
И всё ушло, всё без возврата!
Лишь символ красоты былой
Воздвиг на пышный аналой
Тому назад пять сотен лет
Великий ваятель-поэт.
Но юноша ее давно,
Давно уж знал! Темно, темно
Тогда всё было. Только звезды
Горели в мировом погосте,
И из-за мантий темно-синих
Создателя, как белый иней,
Она глядела в мир с тоской,
А он, застывшею рукой
Сжимая сердце, ждал чего-то
И в золото писал кивота
Черты неведомой святой.
Века неслися чередой,
Он видел след ее повсюду,
Он с воплем поклонялся чуду
Обманчивой фата-морганы,
Таинственной и жутко-странной,
Недостижимой в океане,
И вдруг теперь, в забытой Лукке
Для довершенья жуткой скуки
Он отыскал желанный след.
Вот здесь под этим камнем бред
Его горячечный сокрыт;
Здесь воплощенная лежит
Она, увы, но только тлен
Остался от нее меж стен
Под сводом каменным, должно быть,
В прогнившем от столетий гробе.
А! сколько лет с щемящей жутью
Живых он изучал глаза,
Ходил и в храмы, и к распутью!
Ни ночь, ни холод, ни гроза,
Ни стыд гноящий не могли
От девушек его земли
К служенью возвратить небес;
Но долго не было чудес,
Цветок не отыскался синий
В мучительной людской пустыне.
И лишь теперь, теперь нашел
Он вечной грезы ореол
И пристань тихую, увы,
Для бесприютной головы!
На пять веков он опоздал,
И мраморный лишь идеал
Ему остался в этом мире,
Да между звезд в алмазном клире
Шестокрылатый серафим,
Его сиятельный двойник
Меж рая пестрых мозаик.
Недоуменный пилигрим,
Бесповоротно опоздал
От тяжести земных кандал!
Потух священный огонек
Иларии – и одинок
Теперь останется он вечно.
Судьба жестокая беспечно
На двадцать лишь бурливых волн,
На двадцать горьких поколений
Отважный отдалила челн
От возрожденских сновидений,
И захлестнет больное темя
Ему безжалостное время
Рожденной в Хаосе волной!
Недоуменный и больной
Стоял он, смутный и несчастный,
И образ творчества прекрасный
С предельной мукой созерцал:
– «Непостижимый, жуткий, Боже,
Зачем на каменное ложе
Ее ты каменной простер?
Зачем неутолимый взор
Ты красотою тешишь в мире?
Зачем в моей унылой лире
Подобье истины сокрыл?
Зачем бессчетных шумом крыл
Шеол ты оживил пустой
Прелестной формы суетой?
Ведь места нет уж от могил,
И шум духовных всуе крыл
Всё небо синее покрыл?
И я зачем, объявший Вечность
И этих звезд святую млечность,
И всё же, всё же головы
Не преклонивший здесь, увы,
На любящей меня груди!
Отец незримый, посуди,
Могу ли дальше так идти
Я по бесцельному пути,
Влюбленным в камень, озаренный
Твоим немилосердным оком?
Пронзи меня стрелой червонной,
Испепели меня! Пророком
Я был довольно на земле!
В унылой повторенья тьме
Вопьющего глагол не нужен.
Разочарован и недужен,
С запекшимся от желчи ртом,
Недоуменный я атом
С воспоминаньем о небесном;
Но в этом мире бесполезном
Прозревшему учить других,
Прозревших также и нагих,
Возможно ли, Отец Небесный?
И с этой желчью на устах,
И с этой правдой жуткой, тесной
На покачнувшихся крестах!
Нет, лучше уготовь, родитель,
И мне холодную обитель
Под этой мраморной плитой,
Чтоб с воплощенною мечтой,
До времени уже истлевшей,
Мог отдохнуть поэт, допевший
Всю страду мысли надоевшей.
Илария ты дель Карретто?
Мечта ваятеля поэта,
Одушевленная резцом,
Со стилизованным лицом,
Жена владыки гордой Лукки?
И белые вот эти руки
Другой когда-то целовал?
Не может быть! Непостижима,
Как и моя земная схима,
Ты, отошедшая навек!
И что ты, что ты, человек,
С неотвратимым увяданьем,
С непостигаемым заданьем,
С любовью дивною на час,
С порывом творческим подчас
И желчью разочарованья
Взамен желанного познанья!
Как страшно в солнечной мне бездне
От этой пытки бесполезной;
Как страшно знать, что ты была
До звона белого крыла,
Меня несущего в пучину!
Как страшно, страшно Божью Сыну
Не отыскать желанных уст.
Томителен вокруг и пуст
Эдема для меня простор.
И слезы застилают взор
Мне всюду, и тернистый путь
Мне слова вызывает жуть
И горечь смертную…
IV
Меж тем
За Баптистерием совсем
Спустилось солнце. Синей тени
Скользнули пальцы на колени
Молящегося у гробницы;
Взамен стрельчатой Божьей птицы
Атлачный, черный вдруг крылан
Затрепетал в ночной туман.
В одной из боковых капелл
Дрожащим голосом допел
Монах свое «Ave Maria!».
И чрез залитый мраком неф
Старушки черные, седые
Заковыляли в синий зев
Полузакрытого портала.
И ночь пугливая вбежала
И черный бисер разметала
На белые вокруг плиты.
И юноша, подняв персты
Для крестного опять знаменья,
Во мраке скрытые сиденья
Узрел из темного каштана
С интарсией, и бездыханно
Упал на них, забыв о всем,
Чем этот дивный Божий Дом
Его, бездомного, потряс…
И снова плыл за часом час
Куда-то в голубую вечность.
И звезд таинственная млечность
Зажглась в хаосе роковом,
И в сне глубоком и тупом
Был долго юноша больной
Среди грифонов распростерт,
Орнаментальною спиной
Служивших спящему, как борт
Надежный в море корабля,
Когда сокроется земля!
И даже опытный кустод,
Свершая полночью обход,
Не мог заснувшего отличить
От символических обличий.
И только месяц бледноликий,
Томимый немощью великой
Иль непонятною тоской,
Поднявшись светлою щекой
Над храма трифорным окошком,
Скользнул по мраморным дорожкам,
И трепетно холодный луч,
Прорвавшись из атласных туч,
Глянул на спящего страдальца;
И вдруг печальные зеркальца
Открылись изумленных глаз
И на задумчивый топаз
На миг уставились потом,
И пальцы хрупкие со лбом
Слились мучительно – и вдруг
Магический раскрылся круг,
И понял он и что и где,
Не находимое нигде,
Не разрешимое ничем,
Недоуменного ярем;
И, тяжело вздохнув, пошел,
Минуя призрачный престол
С гигантским бронзовым Распятьем,
К блуждающим во мраке братьям…
Но двери были на запоре,
В необозримом он соборе
Один лишь с ужасом дышал,
Да перед ликом Никодима
Мерцал еще неугасимо
На цепях золотой бокал.
И жутко было, как в могиле,
Ему, проснувшемуся, тут,
И страх его, палящий трут,
Зажег, испепеляя силы…
Один, один во всей вселенной,
Один в лазоревом гробу,
С тоскою слов недоуменной,
Не постигающий судьбу
Всего, что так пугливо дышит
И голос чей-то смутно слышит,
И образ чей-то видит смутный,
Недоуменный и минутный.
Бездомный, хилый, безотчизный,
С восторгом вечным, с укоризной
Непостижимому Творцу,
С тоской шагающий к концу,
С желаньем странным, неустанным,
Ненасытимым и туманным…
А только раз, один лишь раз
От любящих очнуться глаз,
Немеркнущий увидеть блеск
Меж жизни странных арабеск;
Один лишь раз живую руку
Чрез эту горестную скуку
К устам лепечущим прижать!
Увы, под мрамором холодным
Заснули любящие очи,
И никогда из вечной ночи
Призывом их теперь бесплодным
Для состраданья не открыть!
Так оборвись же, жизни нить,
Испепелись, атом горящий
В сердцах окаменелых чаще!
V