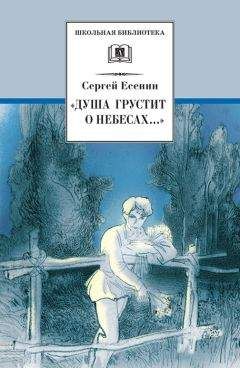Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
IV
Меж тем
За Баптистерием совсем
Спустилось солнце. Синей тени
Скользнули пальцы на колени
Молящегося у гробницы;
Взамен стрельчатой Божьей птицы
Атлачный, черный вдруг крылан
Затрепетал в ночной туман.
В одной из боковых капелл
Дрожащим голосом допел
Монах свое «Ave Maria!».
И чрез залитый мраком неф
Старушки черные, седые
Заковыляли в синий зев
Полузакрытого портала.
И ночь пугливая вбежала
И черный бисер разметала
На белые вокруг плиты.
И юноша, подняв персты
Для крестного опять знаменья,
Во мраке скрытые сиденья
Узрел из темного каштана
С интарсией, и бездыханно
Упал на них, забыв о всем,
Чем этот дивный Божий Дом
Его, бездомного, потряс…
И снова плыл за часом час
Куда-то в голубую вечность.
И звезд таинственная млечность
Зажглась в хаосе роковом,
И в сне глубоком и тупом
Был долго юноша больной
Среди грифонов распростерт,
Орнаментальною спиной
Служивших спящему, как борт
Надежный в море корабля,
Когда сокроется земля!
И даже опытный кустод,
Свершая полночью обход,
Не мог заснувшего отличить
От символических обличий.
И только месяц бледноликий,
Томимый немощью великой
Иль непонятною тоской,
Поднявшись светлою щекой
Над храма трифорным окошком,
Скользнул по мраморным дорожкам,
И трепетно холодный луч,
Прорвавшись из атласных туч,
Глянул на спящего страдальца;
И вдруг печальные зеркальца
Открылись изумленных глаз
И на задумчивый топаз
На миг уставились потом,
И пальцы хрупкие со лбом
Слились мучительно – и вдруг
Магический раскрылся круг,
И понял он и что и где,
Не находимое нигде,
Не разрешимое ничем,
Недоуменного ярем;
И, тяжело вздохнув, пошел,
Минуя призрачный престол
С гигантским бронзовым Распятьем,
К блуждающим во мраке братьям…
Но двери были на запоре,
В необозримом он соборе
Один лишь с ужасом дышал,
Да перед ликом Никодима
Мерцал еще неугасимо
На цепях золотой бокал.
И жутко было, как в могиле,
Ему, проснувшемуся, тут,
И страх его, палящий трут,
Зажег, испепеляя силы…
Один, один во всей вселенной,
Один в лазоревом гробу,
С тоскою слов недоуменной,
Не постигающий судьбу
Всего, что так пугливо дышит
И голос чей-то смутно слышит,
И образ чей-то видит смутный,
Недоуменный и минутный.
Бездомный, хилый, безотчизный,
С восторгом вечным, с укоризной
Непостижимому Творцу,
С тоской шагающий к концу,
С желаньем странным, неустанным,
Ненасытимым и туманным…
А только раз, один лишь раз
От любящих очнуться глаз,
Немеркнущий увидеть блеск
Меж жизни странных арабеск;
Один лишь раз живую руку
Чрез эту горестную скуку
К устам лепечущим прижать!
Увы, под мрамором холодным
Заснули любящие очи,
И никогда из вечной ночи
Призывом их теперь бесплодным
Для состраданья не открыть!
Так оборвись же, жизни нить,
Испепелись, атом горящий
В сердцах окаменелых чаще!
V
И юноша в трансепт, залитый
Луны холодным серебром,
Поплелся грустно, где Хариты
Читали вдумчивый псалом
Над возрожденья пышной розой,
Над тихо отошедшей грезой.
И чудо вдруг увидел он,
Непостижимый, странный сон:
Блаженно, призрачно смеялись
Ее холодные уста,
И мерно-тихо колыхались
На складках мраморного платья
Концы сурового распятья…
Смеялись тихие уста,
И херувимы неспроста
Под ней гирлянды колыхали,
Забыв о каменной печали.
Из-под тяжелых вдруг ресниц,
Как вспугнутая стая птиц,
Лучи загадочно блеснули
И в жутких безднах затонули
Его воспламененных глаз.
И пробуждения экстаз,
Казалось, овладел всем телом
Покойницы в дамаске белом,
И мрамор весь затрепетал,
Как в форму льющийся металл,
И радостный, казалось, крик
В груди согревшейся возник…
И крик раздался жуткий, страшный,
Как будто в схватке рукопашной
Пронзили чью-то грудь штыком,
Но только не холодным ртом
Был этот страшный крик рожден:
То нищий был Пигмалион,
Изгнанник русский, серафим,
В небесный Иерусалим
Забывший почему-то путь,
То слова творческая жуть
Три нефа мрачных огласила.
Впиваясь пальцами в перила
Могильной, бронзовой ограды,
Дрожа от страха и услады,
Через волшебный, хладный круг
Он потянулся к камню вдруг…
А! вот холодных складок платья
Коснулись пальцы, вот распятья
Колышущийся силуэт…
Вот грудь легла на парапет…
Вот плеч коснулся он руками
И жарко жуткими устами
К устам склонился белоснежным,
Светло смеющимся и нежным;
Вот заглянул под тяжесть вежд,
Исполнен вечности надежд,
И вдруг к смеющейся приник…
И снова страшный, жуткий крик
До сводов черных пронизал
Готический, суровый зал.
Нечеловеческий то крик,
Животворящий лишь язык
Спасителя в предельный час
С таким рыданием погас…
Холодное, казалось, жало
Его до сердца пронизало,
Ледяный вечности глагол
Он в поцелуе том прочел,
Чудовищный какой-то смысл
Неразрешимых Божьих числ,
Недоумения конец,
Терновый вечности венец…
И, молниею поражен,
От каменной отпрянул он
Возлюбленной и на гранит
Скатился орнаментных плит,
И острые ему ступени
Впились меж позвоночных звений
И темя гранью рассекли.
И струйки крови потекли,
Змеясь, на мрамор белоснежный…
_______________
Кустод его с утра небрежный,
Лениво шевеля метлу,
Нашел на каменном полу,
И в капюшонах черных братья
Из смертного затем объятья
С недоумением в больницу
Снесла диковинную птицу.
А через месяц снова он
Через лазурный Божий Сон
С недоуменными словами
Шагал с котомкой за плечами.
_______________
И двадцать лет прошли, как миг.
Всё тяжелее от вериг,
Всё чаще в голубую дверь
Стучит он вечности теперь
И всё тревожней посошок
Втыкает в терний и песок…
И дальше всё… Куда? Зачем?
Я и теперь того не вем.
28 февраля 1926 – 17 мая 1927 Флоренция
«Словесные пишу я фрески…» Заметки о поэзии Анатолия Гейнцельмана
Внешняя биография Анатолия Гейнцельмана с упоминанием многих из ее поворотных вех – борьбы поэта с чахоткой, начального интереса к толстовству, к деятельности левых политических группировок, его сознательного пути к одиночеству – прояснена его письмом к литератору и переводчику Ринальдо Кюфферле. Стефано Гардзонио, назвав Гейнцельмана «поэтом одиночества», отметил связь между этой чертой социального поведения Гейнцельмана и его творческим обликом. Впрочем, несмотря на очень ограниченный круг общения Гейнцельмана, его имя было замечено влиятельными критиками и литераторами в Италии благодаря переводам нескольких стихотворений на итальянский. Русские же современные отзывы о Гейнцельмане, приводимые С. Гардзонио, немногочисленны и хронологически смещены уже на последние годы его жизни, что объяснимо, конечно, обстоятельствами его многолетней самоизоляции[9].
Таким образом, творчество Гейнцельмана на протяжении десятилетий было лишено и своего читателя, и такого – естественного – восприятия текста, при котором за счет публикаций и различных отзывов на них создается объемный портрет автора. Однако подобными случаями, когда теряются «преимущества актуального прочтения и резонансной среды», изобилует история литературы, тем самым подтверждая слова выдающегося современного поэта, при всех исторических и индивидуальных вариациях, что «биография стихотворца – это его стихи, вехи которой – книги»[10]. Эта формула приложима в том числе и к Гейнцельману, причем существенно, что его поэтическое наследие, то самое «море стихов», судьба которого, по его замечанию в письме к Ринальдо Кюфферле, была ему «совершенно безразлична», оказывается столь насыщенным автобиографическими реминисценциями и включает в себя даже «автобиографические повести в стихах». По этим реминисценциям восстанавливается иной ряд значимых событий и эпизодов биографии Гейнцельмана – ее (мифо)поэтическая версия.