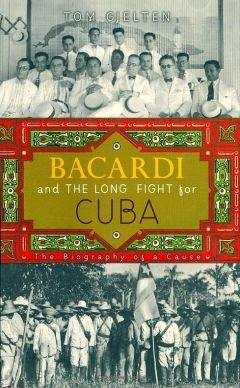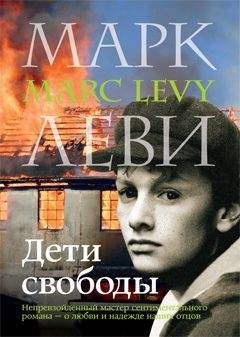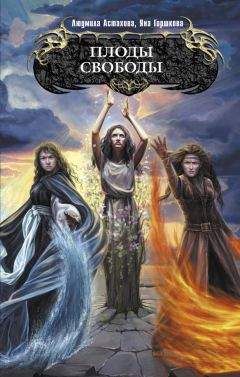Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
Все еще недоверчиво улыбаясь, Луис Медина пошарил под кроватью и достал гитару, обернутую куском белой ткани, расшитой тоже белыми, мелкими, похожими на померанцевые цветами. Оливеро предположил, что когда-то этот кусок ткани был свадебным платьем. Юноша снял ткань с нежностью, сравнимой с нежностью жениха, раздевающего невесту в первую брачную ночь. Несколько секунд он смотрел на гитару, затем перевернул, оперев на колено. Правой рукой он перебирал струны, левой подтянул колки. Затем начал наигрывать мелодию, которую Оливеро определил как итальянскую.
— Где ты научился играть?
— У меня был учитель музыки, но я с детства играю на слух, — ответил Луис Медина, — отец подарил мне эту гитару, когда мне было пять лет, я любил садиться рядом с радиоприемником или проигрывателем и подбирать мелодии, которые слышал, и у меня действительно неплохо получалось.
— Почему же ты не пошел в консерваторию?
— В деревне у меня был учитель, отличный учитель по фортепьяно. Но мне на самом деле нравится играть для себя и двух-трех друзей. Я не хочу играть перед молчаливой аудиторией, которая смотрит на тебя изумленными глазами, как на зверя в клетке.
Приятным, хриплым голосом он запел:
Mi sono innamorato di te
e adesso
no so neppure io cosa fare…[123]
— Луиджи Тенко, — узнал Оливеро.
— Ты его знаешь?
— И его, и Серджио Эндриго, и Джимми фонтану. Я очень люблю итальянскую музыку, и не только итальянскую, французскую тоже, и американскую, и кубинскую…
— То есть ты любишь музыку.
— Да, точно, я люблю музыку, могу плакать под Анри Вьетана и под венесуэльца Марио Суареса, когда он поет «Я никогда не узнаю, что за чудо любви мою ночь осветило…». А это Луиджи Тенко, кстати, о самоубийствах…
Оливеро охватило волнение, вызванное не только звучанием гитары и неплохой игрой Луиса Медины (и его присутствием; известно, как сильно волновался Оливеро в присутствии молодых мужчин), но и чем-то большим, что касалось и юноши, и самого Оливеро, и того, что происходило (почти ничего), и даже места, где происходили эти пустяковые события, этой бедной комнаты с голыми стенами, грязной постелью, картой Европы с флажком, пришпиленным к городу Триесту, фотографией Луиджи Тенко. И странно молчаливой, спящей, притихшей Гаваны.
Луис Медина перестал играть, в его бороде блестели капли пота. Видно было, что он устал. Он положил гитару на пол, откинулся на кровать и закрыл глаза.
— У меня была семья, — сказал он, — семья и невеста.
Оливеро предположил, что это слова новой песни, и подождал в тишине, с ощущением того, что этот особенный день, в который столько всего произошло, только начинается, и одновременно с убеждением, вполне понятным и даже тривиальным, что в каждом человеке, даже самом обыкновенном, кроется возможная история, роман.
Луис Медина повторил, что у него была семья и невеста. Он рассказал, что родился и жил долгое время в Карабальо, деревушке к югу от Санта-Крус-дель-Норте, стоящей на берегу ручья. Он жил прямо у ручья в удобном доме с садом, полным роз, пальм и прочих деревьев. Его отец был единственным ветеринаром в деревне. Мать заведовала одной из трех аптек. Две сестры Луиса, обе старше него, учились в Гаване, одна на учительницу, другая — домоводству.
На берегу ручья, среди пальм, хлопковых деревьев, зарослей мирта и плакучей ивы всегда было хорошо, особенно по вечерам. В действительности это был не ручей, а большой, узкий, вытянутый пруд, бравший свое начало у холмов, где паслись коровы сеньора Лоренсо Надаля, его учителя музыки и единственного в Карабальо человека, который что-то понимал в музыке и рассказывал о Моцарте и Бетховене. Вода в ручье, зеленоватая, пахшая землей, почти не двигалась. И над окрестными полями стоял запах тины, доносившийся и до дома. Как будто бы вот-вот пойдет дождь. Как только опускалось солнце, едва лишь оно закатывалось за шоколадную фабрику, принадлежавшую компании «Херши», жители деревни семьями направлялись к ручью. Они садились на чистые белые валуны, которые, казалось, специально кто-то положил вдоль берега. И беседовали. Вернее, не столько беседовали, сколько чесали языками. Болтали о пустяках, не заботясь о том, чтобы их слова были кому-то нужны. Задавали вопросы, на которые не дожидались ответа. Отвечали на вопросы, которых никто не задавал. Многие и вовсе молчали.
Добрячка Симе, например, никогда не разговаривала, она просто садилась там со своей корзинкой с материалом для цветов. Симе делала цветы из разноцветной бумаги, из китайской бумаги, из гофрированной бумаги и даже проволочные цветы со стеклярусом. Для свадеб, юбилеев и любых других праздников. И нужно признать, цветы у Симе иногда получались лучше настоящих. Они не стремились повторить или превзойти их, они были другими, например проволочными, и совсем не были похожи и не хотели быть похожи на настоящие цветы.
Сеньор Алибио тоже никогда не разговаривал, потому что он, как правило, пел, причем пел, подражая Карлосу Гарделю[124]. Даже летом сеньор Алибио ходил в тройке и галстуке, в сдвинутой набок шляпе и с шарфом на шее. Он в самом деле хорошо пел, и в самом деле в его голосе была та нежность, которая напоминала, как он выражался, «брюнета с рынка Эль-Абасто» Кроме того, он умел быть драматичным и даже, если нужно, трагичным — талант, без которого невозможно спеть по-настоящему хорошее танго. Супруга сеньора Алибио, Ферминия, напротив, любила поговорить, особенно об их путешествии в Рио-де-ла-Плату, в Буэнос-Айрес. Все остальные посмеивались одновременно снисходительно и язвительно, потому что Алибио и Ферминия никогда не выезжали за пределы Карабальо, разве что несколько раз воспользовались поездкой в больницу Кинта-Ковадонга, чтобы пройтись по проспекту Буэнос-Айрес в гаванском районе Эль-Серро, по весьма приятному, широкому зеленому проспекту, идущему от улицы Аменидад до шоссе Виа-Бланка и улицы Сантос-Суарес. По этому-то проспекту, говорили, и прогуливался Алибио, напевая: «Мой любимый Буэнос-Айрес, когда я снова увижу тебя, когда я снова увижу тебя»[125].
Мальчишки между тем закуривали свои первые сигареты и играли в бейсбол. Девочки или пели, или разговаривали о Красавчиках, как называли нескольких смазливых актеров, кривляющихся по телевидению, и тоже закуривали свои первые сигареты. Мальчишки не пели танго, они предпочитали песни Пола Анки, «The Platters», Билла Хейли и его «Комет». Сам Луис иногда брал в руки гитару и выдавал «Love Me Tender», и всякий раз девчонки говорили, что если закрыть глаза, то можно представить, что поет сам Элвис Пресли.
К ручью каждый вечер выходила Полька Мария, которая была не полька, а русская, из какой-то, как она утверждала, деревни под Санкт-Петербургом на берегу Ладожского озера; только в те годы, когда она приехала на Кубу, кубинцы еще не очень хорошо знали, что есть такая страна — Россия, тем более Советский Союз, и все думали, что если русский, значит, все равно что поляк, точно так же, как если не католик, значит, еврей.
— Она русская, как Бородин и Мусоргский, — растолковывал Лоренсо, учитель музыки.
Для жителей деревни было проще принять тот факт, что Мария русская, чем осознать нечто столь сложное, как факт ее сходства с двумя неизвестными людьми с фамилиями Бородин и Мусоргский.
Полька Мария рассказывала, как началось ее бегство от коммунизма в тот ноябрьский день 1923 года, когда Адольф Гитлер предпринял неудачную попытку государственного переворота. Полька Мария рассказывала, что они с мужем решили выехать из России зимой, потому что зимой бежать было сложнее, и именно поэтому проще. И она пересказывала свое бесконечное путешествие в снегах, через заснеженные деревни и леса, на север, вверх по берегу озера, чтобы попытаться перейти границу с Финляндией, а затем по Балтийскому морю попасть в Германию. И всегда кто-нибудь спрашивал, что же такого ужасного было в коммунизме, что от него нужно было бежать, как от бубонной чумы. Она никогда не отвечала. Она закрывала глаза и вздыхала. И лишь иногда восклицала: «Ах, если бы вы только знали!»
И ее интонация и акцент свидетельствовали о том, что она выучила испанский от испанцев, по книгам и в путешествиях.
И всегда после рассказа о своих мытарствах, о том, как она пешком обошла всю Европу, пересекла Германию, Францию, перебралась через Пиренеи, чтобы добраться до Испании и сесть в Барселоне на корабль, который должен был отвезти ее в Картахену-де-Индиас, а оттуда наконец в Гавану, почему именно туда, она сама точно не знала, как не знала и того, что представляла собой Гавана, так вот, всегда после этого рассказа в воздухе оставался висеть вопрос — почему нужно было все бросить, перенести столько тягот и опасностей, чтобы сбежать от коммунизма, как будто коммунизм — это какая-то прорва злобных чудовищ или бедствий и напастей?