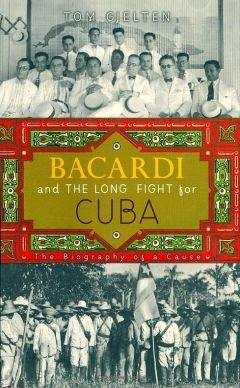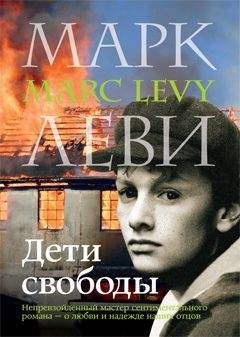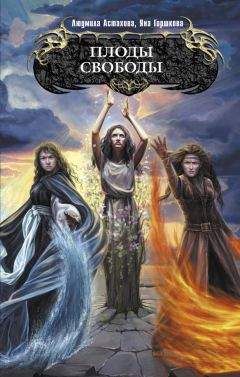Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
— «La bella estate»[127], — сказал Оливеро.
В первый поход в кино они с восторгом посмотрели «Головокружение» с Ким Новак и Джеймсом Стюартом, фильм, который их соединил. «Головокружение» и первый поцелуй на выходе из кино, на увитой лианами улице Агуа, сразу за углом кинотеатра, между масонской ложей и храмом «свидетелей Иеговы».
Глаза Луиса Медины блестели. Он улыбался, но не Оливеро, никому и ничему из того, что находилось в душном настоящем комнаты на улице Барселона, рядом со зданием бывшей Кубинской телефонной компании.
Как раз тогда начались разлуки, настоящие и навсегда. И кроме того, было объявлено, что отныне каждая разлука будет навсегда[128]. И в один из дней 1965 года, непонятно, почему именно в этот день, а не в любой другой, стало ясно, что сестры никогда не вернутся из Северной Каролины. А в другой день 1965 года из крошечного порта Бока-де-Камариока[129] к востоку от Матансас, не доезжая пляжей Варадеро, тысячи кубинцев отплыли на яхтах или на чем смогли в направлении побережья Флориды.
Соня была одной из двухсот тысяч кубинцев, которые покинули страну, отплыв из порта Бока-де-Камариока. Ей и ее родителям помогли выехать братья учителя Искьердо, географа. Трое дядьев Сони с конца сороковых годов жили и успешно занимались фумигацией в Мобиле, Алабама.
В ночь прощания Луис Медина обещал Соне, что приедет за ней в Мобил или, если будет нужно, на вершину горы Мак-Кинли. Она обещала, что будет ждать. Не стоит и говорить, что эти обещания не казались невозможными. Родители Луиса пришли к заключению, что пора уже объединиться с дочерьми, тоскующими в методистском интернате в Северной Каролине. Без липших терзаний, скорее с облегчением, они решили, что следует и даже необходимо покинуть остров. Курс, который чем дальше, тем больше принимала кубинская политика, заставлял их отправиться на поиски того, что они полагали лучшей долей. Сам отец Луиса, ветеринар, поговорил с учителем Искьердо, географом, и поделился с ним своим намерением выехать из страны. Вызов должен был сделать кузен, живший в Йонкерсе со смутных времен диктатуры Мачадо.
Никому не пришло в голову, что вскоре, в августе 1966 года, Луису Медине исполнится шестнадцать лет и он вступит в так называемый призывной возраст, что подразумевало строжайший запрет на выезд, фактически заключение. Заточение внутри непреодолимой береговой линии острова. Любой юноша призывного возраста должен был служить своей родине, поскольку родина (родина-мать!) его вырастила и воспитала, и он обязан был благодарностью и рвением ответить на эту великую заботу родины-матери. Луис Медина сможет выехать с Кубы только годы спустя.
Он сам убедил родителей, что они должны уехать без него. Его доводы были не лишены логики: побеги никогда не совершаются толпой. Потихоньку, по одному было проще вырваться. Одному можно выйти в море хоть бы и на автомобильной камере.
Итак, родители выехали с Кубы в Соединенные Штаты через Сан-Хосе, Пуэрто-Рико, 4 ноября 1966 года, в тот же день, когда ошеломленная Италия наблюдала, как вышедшая из берегов река Арно затапливает два из ее самых красивых городов — Пизу и Флоренцию.
Сейчас, в настоящем, все безмолвие Гаваны сосредоточилось в комнатушке. Оливеро встал, достал платок и отер им мокрый лоб юноши.
— Постарайся заснуть.
Луис Медина закрыл глаза. Возможно, он уснул.
Когда ранним утром Оливеро возвращался по улице Галиано на улицу Рейна, ему казалось, что странная тишина, царившая в городе в ту ночь, была связана с очень многими вещами, и все они были недоступны пониманию. И среди этих вещей были, без сомнения, страх, разлука и ожидание.
СНОВА СНЕГ НА МАНХЭТТЕНЕ
Иногда снег будет валить крупными хлопьями. Иногда мелкими, разрозненными снежинками, иногда это будет мокрый снег. Валерии придется протереть запотевшее окно. Она будет стараться разглядеть что-нибудь среди кружащегося снега. Верхний Вест-Сайд будет похож на длинное ущелье среди высоких, тесно стоящих зданий, по которому беспрепятственно разгуливает ветер. Самым беспощадным будет, конечно, ветер с Гудзона.
Все будет серым и пустынным. От канализационных люков, от сточных канав будет подниматься белый пар, отчего вид из окна ей покажется фантасмагоричным. Слышен будет далекий шум машин, едущих вдоль реки по шоссе Генри Хадсона. И неумолчный гомон Бродвея, прорезаемый время от времени нетерпеливыми автомобильными сигналами, которые будут нарушать этот приглушенный утренний шум.
В другое окно Валерия будет видеть улицу Риверсайд-Драйв и парк по ее левой стороне. Огромный, тянущийся до самого горизонта парк в этот день в будущем не будет похож на место для прогулок, потому что будет пустынно. Не слышно будет птиц. Трава будет покрыта инеем. Деревья будут стоять голыми, как мертвые. Гудзон будет неподвижно лежать меж своих застывших, морщинистых, суровых белых берегов. Как обычно, небольшие льдины будут плыть к Атлантическому океану. Должно быть очень холодно, чтобы Гудзон целиком сковало льдом. Палуба прогулочного кораблика опустеет. Туристов не будет. Мало кто отважится на прогулку по реке в такую погоду. Валерия различит только баркасы, доставляющие грузы на большие суда.
Берег со стороны Нью-Джерси будет напоминать импрессионистические пейзажи Чайлда Хассама. А мост Джорджа Вашингтона будет едва различим, и контуры зданий красного кирпича вдали будут размыты.
ПУТЕШЕСТВИЯ С ЛУИСОМ МЕДИНОЙ
Каждый вечер в течение двух мимолетных месяцев Оливеро приходил к Луису Медине в его комнату на улицу Барселона рядом со зданием Кубинской телефонной компании. Они разговаривали, слушали новости Би-би-си и «Голос Америки» на советском радиоприемнике, который Оливеро принес из квартиры Элисы. Они пили из металлических кувшинов крепкий черный чай с большим количеством коричневого сахара и лимоном. Луис играл на гитаре и пел песни Луиджи Тенко, Джимми Фонтаны и Жана Ферра.
Оливеро научил его песне, которую считал одной из самых прекрасных из тех, что он когда-либо слышал, «Io che amo solo te»[130] странного барда по имени Серджо Эндриго. Они говорили о том дне, когда смогут поехать на фестиваль в Сан-Ремо. Или о дне, когда встретятся в Сан-Франциско с Джоан Баэз.
Старомодный Оливеро, в свое время читавший Рескина, мечтал поехать в Венецию. Луис — во Флоренцию, Сиену, Рим и Париж.
(Следует отметить, что Оливеро так и не осмелился рассказать Луису о своих воображаемых путешествиях.)
Они обсуждали фильмы, виденные в Синематеке. Оба знали наизусть все музыкальные комедии, которые там крутили. Луис, как и Оливеро, не раз ходил на цикл вестернов. Его любимым был «Дилижанс». Оливеро убеждал его отказаться от предрассудков и срочно посмотреть «Романс о влюбленных» и «Пепел и алмаз». Луис недоверчиво смотрел, нахмурив лоб, и с сомнением спрашивал: «Русское кино и польское кино?»
Оливеро с улыбкой отвечал, что он конечно же понимает его опасения, но что не нужно путать великое русское искусство с неприятным товарищем Леонидом Брежневым, сидящим в Кремле, или Луис забыл, что Достоевский, Гоголь, Чехов, Толстой и Тургенев были русскими? Никогда, ни за что на свете, настаивал Оливеро, не следует путать русское искусство, настоящее русское искусство, с Рабочим и Колхозницей студии «Мосфильм».
Несколько раз в воскресенье они вместе ходили на концерты в театр Амадео Рольдана. Луис коллекционировал программки с текстами Анхеля Васкеса Мильяреса[131]. Потом они гуляли по Ведадо. Любовались заброшенными садами и старинными особняками. Кустами дикого лавра, которые вздыбливали асфальт могучими корнями. Проходили мимо отеля «Тротча», где Сара Бернар, рассказывал Оливеро, влюбилась в тореро Мансантини. Мимо бывшего дома семьи Лойнас. Они садились на Малеконе, рядом с башней Ла-Чоррера. Смотрели на море. В это время года море всегда бывало спокойным. Они видели, как внезапно гаснут огни города. Словно по приказу, как будто какая-то опасность заставляла город исчезнуть, стать невидимым.
Иногда они доходили туда, где река Альмен-дарес впадает в море, ложились на скалы и наблюдали за красными закатными облаками. Оливеро между тем все больше нравился сильный запах пота и влажной одежды, исходящий от юноши.
Иногда Луису становилось жарко, и он скидывал с себя одежду и бросался в море, плавал и махал рукой из воды, изображая, что уплывает, что навсегда уплывает на Север, «хаотичный и жестокий» (эпитеты, которыми он всегда с иронией сопровождал это загадочное слово — «Север»).
Оливеро смотрел, как он уплывает, теряясь на горизонте. Когда же он вылезал, становилось очевидным, что запах пота не исчез, к нему лишь прибавился еще один, смутный запах грязного моря. И тогда присутствие этого моря тоже становилось еще более, насколько это было возможно, очевидным.