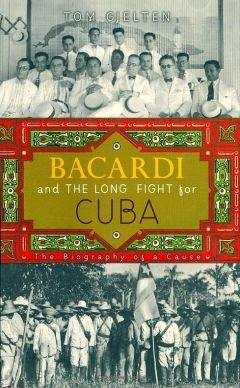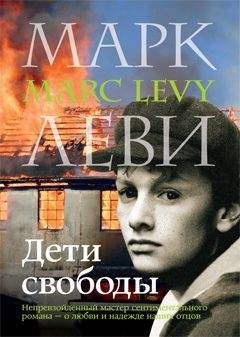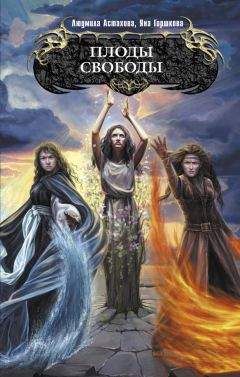Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
И никто даже и не подумал придать этому значение. Даже она. Потому что в этом краю света тучи могли налетать и так же мгновенно рассеиваться, иногда так и не пролившись дождем. К тому же утро того сентябрьского воскресенья было поначалу ясным и замечательно солнечным, и море отливало редким бирюзовым оттенком.
В те годы еще не было телевидения. Оставалось девять или десять лет до того, как Пумарехо и Гоар Местре откроют первые телевизионные каналы на Кубе. Национальная обсерватория имела собственную радиостанцию, CLX, а директор обсерватории был другом мистера, а значит, и всех Домашних. Капитан третьего ранга и опытный инженер, получивший образование в Соединенных Штатах, Хосе Карлос Мильяс, капитан Мильяс, как обычно называли этого обаятельного, мягкого и общительного человека, частенько приезжал на пляж. И даже не нужно было слушать CLX, чтобы знать, какая будет погода. Достаточно было своевременного телефонного звонка.
В то воскресное утро доктор встал по своей привычке рано, до рассвета, и, съев обычную яичницу с беконом, попросил Андреа разбудить Эстебана.
Любовь американца к Эстебану была очень трогательной. Он окружил его заботой, Как сына. Единственная проблема: он любил его как сына, обреченного на успех. Доктор оплачивал его обучение в колледже Кэндлера, великолепном методистском колледже в Марианао, где самое большое значение придавали двум дисциплинам: английскому и физкультуре. И планировал послать его в Гарвард. Он видел в этом четырнадцатилетием мальчике все качества прирожденного спортсмена: строгая самодисциплина, невероятная уверенность в себе, стремление быть первым во всем и, Андреа не могла с этим не согласиться, потрясающие физические данные. Упрямый, как отец, настойчивый и жесткий, как все Годинесы, Эстебан был красив резкой итальянской красотой семьи Андреа. Только взгляд выдавал в ее сыне ребенка. Наивный и любопытный взгляд и иногда поведение, капризы. Но его тело, закаленное бейсболом, баскетболом, плаванием и греблей, было развито как у двадцатилетнего юноши. Как у молодого пловца Вайсмюллера[132], выигравшего Олимпиаду в Париже за два года до рождения Эстебана. Как у Яфета. (Андреа не говорила об этом вслух, и все остальные, естественно, тоже предпочитали помалкивать: Яфет был необыкновенно похож на дядю, которого не знал.)
В то воскресное утро О’Рифи настоял на том, чтобы Эстебан вышел в море на «Мейфлауэре». У мальчика была собственная лодка, замечательный речной каяк, который мистер купил для него в Анкоридже.
Но доктор заставлял его выходить на «Мейфлауэре», объясняя, что бот больше и неповоротливее каяка, а значит, управление им требует лучшего владения телом, большей ловкости, осмысленного применения силы, и потом все это на каяке станет техникой, отточенной и утонченной, как хорошая идея.
Так же было и в то воскресенье. Андреа столько раз заново переживала его, что иногда ей казалось, что воскресенье святого Матфея 1941 года было только что, а иногда, и это было страшнее всего, что оно еще только предстоит.
Эстебану не хотелось грести, не хотелось ничего, только спать, он признался ей в этом за завтраком. Он через силу выпил стакан молока. Он выглядел грустным. Потянулся, чтобы разбудить сонное тело, и сказал:
— Я еще сплю.
И добавил, что предпочел бы остаться в кровати до одиннадцати или двенадцати. К тому же Андреа он показался подавленным. Почему?
С тех пор и до сегодняшнего дня Андреа не могла слышать слово «сплю» без содрогания. Она чуралась глагола «спать», словно проклятия. Особенно если он относился к ребенку или подростку. Она старалась никогда не входить в комнату Яфета и Немого Болтуна в то время, пока они спали. Ее охватывал ужас, когда она видела, как кто-то спит, в особенности если это был ребенок или подросток.
Но с доктором не проходили эти штучки: хочу спать, грусть, лень. Тем более суеверия и предчувствия. Он был добродушным и практичным человеком. И как во всяком настоящем американце, в нем было неуемное, самозабвенное стремление к успеху и воспитанию силы воли, которая к этому успеху приводит. Он придавал такое значение упорству и физическим тренировкам, что, будучи врачом, который изучил открытие Карлоса Финлея[133] и способствовал искоренению желтой лихорадки на Кубе и во всем Карибском регионе и Центральной Америке, а также, между прочим, строительству Панамского канала[134], с годами перестал прописывать лекарства. Все лечилось физическими упражнениями, жаловался ли человек на боль в горле или на зубную боль. Упражнениями от всего, даже от ветряной оспы. Он накладывал на пациента руки, как шаман, и прописывал прыжки и кувыркания.
«Это новая, чудодейственная метода, — заявлял он, — здоровое тело, здоровая жизнь».
И еще он обычно добавлял, что сон не имеет значения сам по себе, что он нужен только для того, чтобы тело лучше служило в моменты бодрствования.
«Безделье — мать всех пороков, — говорил он на испанском, картавя, — праздность развращает человека».
Именно по этой причине в то воскресенье он не понял, что Эстебан хочет еще немного поспать. И мальчик, привыкший к строгости, поплелся за доктором к лодке.
Как всегда, Андреа помогла ему обуть красные потертые кеды и обмотала белым холщовым бинтом большие мозолистые руки сына.
Серена, его сестра-близнец, намазала ему грудь, плечи и спину мазью из жира кубинского удава.
Волосы Эстебана стали золотистыми от солнца, потому что он не терпел никаких головных уборов, даже шапочку, которую связала ему сама Андреа, чтобы защищать голову.
И они видели, как он, взмахивая веслами, отплыл на «Мейфлауэре» в восемь часов двенадцать минут в то воскресное утро 21 сентября 1941 года, в день святого Матфея Евангелиста, в то время как в Европе шла страшная война. И море было спокойным и блестящим (или «спокойной и блестящей», как сказал бы американец, потому что он говорил о море в женском роде), и нежный, влажный ветерок доносил далекий и совсем не угрожающий запах дождя.
Андреа показалось, что сын гребет с закрытыми глазами.
— Он спит, — сказала она, когда тот отплывал, — мальчику нужен отдых, после обеда я заставлю его поспать.
— Да, он спит, — повторила Серена, обнимая мать за талию.
И Андреа, сама не зная зачем, подняла руку, то ли прощалась, то ли хотела остановить.
ОКНО (1)
В субботнюю ночь 20 сентября 1941 года, накануне дня Матфея Евангелиста, люфтваффе начало бомбардировки советского Балтийского флота под Ленинградом. И Эстебан Годинес, которому еще не исполнилось и пятнадцати лет, проснулся от ночного кошмара и понял, что, сколько бы он ни старался, ему уже не уснуть.
Дом тогда принадлежал американцу, и он жил там большую часть года, поэтому семья Годинес, а также Мамина и Висента де Пауль, занимали несколько комнат на первом этаже. Доктор уже подумывал о том, чтобы отвести Эстебану отдельную комнату (занятия спортом и хорошее питание сделали из него настоящего мужчину), но пока что тот спал со своими тремя сестрами в просторной комнате, выходившей окнами на поросший казуаринами холм, в той самой комнате, которая годы спустя превратится в склад для мешков с углем.
Накануне Матфея Евангелиста было очень жарко. Ветра не было, деревья, дом, пляж — все безнадежно застыло в неподвижном знойном мареве.
Устав бесполезно ворочаться среди влажных простыней, Эстебан решил встать и пойти к морю.
Серена, Амалия и Элиса, три его сестры, спали спокойным, блаженным сном, как будто их не беспокоили жара и духота.
Шел, вероятно, двенадцатый час. Мальчик прошел сначала на кухню и попил, по привычке, воды из-под крана. Сунул под струю голову, шею, плечи. Вода стекала по спине и ягодицам, принося облегчение. Из какой-то части дома донеслись голоса. Кто-то спорил, или ему так показалось. Прежде чем вылезти через окно на пляж, он тихонько подошел к родительской комнате. Дверь, как и следовало ожидать, была закрыта. Он приложил ухо к деревянной стене и услышал голоса. Тогда он вылез из окна кухни, но вместо того, чтобы спрыгнуть вниз, прошел по козырьку крыши до открытого настежь окна родительской комнаты.
Лампа на ночном столике была зажжена. Это была дурацкая фарфоровая лампа в форме обильно покрытого остроконечными листьями стебля, завершающегося раскрытым цветком. Внутри цветка горела тусклая лампочка, от которой в комнате было больше теней, чем света.
Полковник сидел в кресле, он был голым. Его локти опирались на подлокотники, а руки были соединены словно в молитве. Он смотрел на кровать. Эстебану не видна была кровать, поэтому он осторожно сделал еще один шаг, чтобы видеть родительскую комнату целиком. Москитная сетка над большой двухместной кроватью была поднята, как театральный занавес в дни репетиций. Казалось, что кровать покрыта марлевым балдахином. Тоже обнаженная, Андреа сидела в подушках, опираясь спиной на обтянутое атласом изголовье. Глаза ее были закрыты, ноги раздвинуты и вся поза выражала какую-то беспомощность. Ее локти лежали на бедрах, а кисти рук скрывались в темной ложбинке между бедрами.