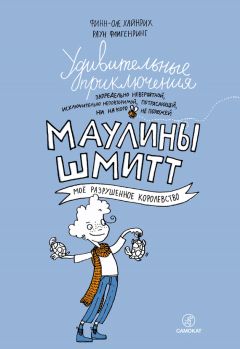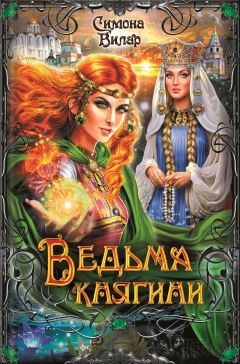Тирания мух - Мадруга Элайне Вилар
И с того момента все пошло почти безупречно.
Почти — потому что, как только маленькая мама закрывала глаза, ее мозг рисовал бабочек, которых она так ненавидела. Они находились все там же, в ящике, спрятанные в стопках психологических тестов, избежавшие многих часов терапии. Упрямые бабочки. И все же достаточно было открыть глаза, чтобы их позабыть. Мир продолжал вращаться вокруг своей оси.
Однако в реальности все обстояло по-другому, и мама это очень хорошо понимала: бабочки по-прежнему оставались на месте, в самой глубине воспоминаний.
В молодости маме не нравились военные сапоги и парады. Ее неимоверно утомляла ходьба маршем, из-за которой сапоги постепенно натирали ноги. Мозоли росли. Она невольно отставала. Мама всего лишь хотела быть частью толпы, быть как все, что в действительности не должно было представлять труда даже для такой, как она, сироты, выросшей в приюте, созданном государством для детей-изгоев. Все было единообразно: одинаковые сапоги, одинаковые платья, одинаковая форма, одинаковые мысли, одна жара, одно лето на всех. Мама могла выделиться только мозолями. Лишь хромота отличала ее от остальных. Но в тот день ей повезло.
— С-сапоги т-тебе жмут? — снова спросил мужчина-военный, чье лицо мама прекрасно знала.
Он не казался ей особенно привлекательным, однако подчас власть придает необычные черты, которые легко спутать с красотой, — молоденькая мама посмотрела на мужчину, и он ей понравился. Она и представить себе не могла, что военный его уровня мог так заикаться, какая прелесть, что такой важный человек нервничал, проявлял сочувствие и был небезупречным. Определенно в тот день у мамы отказали не только ноги.
— Спадают, — ответила она. — На размер больше, чем надо.
— П-пойдем найдем тебе новые сапоги. Так не годится.
Если бы молоденькая мама могла выбирать, она надела бы не сапоги — неважно, старые или новые, а туфли на высоких красных каблуках, те, от которых появлялись настоящие мозоли. Стоя на этих шпильках в своих мечтах, мама чувствовала себя самой красивой на свете. Разумеется, подобные фантазии были тогда под запретом, по крайней мере для нее, старающейся быть как все и не выделяться. В тот момент возможность получить новые сапоги, познакомиться с заикающимся облеченным властью мужчиной было верхом ее мечтаний.
Она последовала за ним сквозь толпу. Не говоря ни слова.
Охранники властного заики уставились на молоденькую маму.
— Она пойдет с-со мной, — сказал он, не добавляя ничего больше, да было и не нужно.
Два месяца спустя они поженились, к тому времени мама уже носила под сердцем Какасандру и отказалась от оргазмов. Папа подарил ей красивые туфли на каблуках. Они были не красного, а всего лишь черного цвета, но мама поняла, что этим подарком он показал, что счастлив. Из-за беременности у нее опухли ноги, и туфли на каблуках лежали без дела. Еще в утробе матери Какасандра проявляла дурной характер. Она вызывала утреннюю тошноту, судороги и отеки. Мама попыталась втиснуть ноги в туфли и почувствовала разочарование.
— Они мне не подходят, — виновато пожаловалась она мужу.
— С тобой и твоими ногами всегда все сложно, — ответил он.
Она никогда его не любила. Этот властный заика все время был озабочен политикой и государственными делами, восхождением на очередную ступеньку лестницы долга и своими медалями. Мама сосредоточилась на рождении детей, чтении книг по психологии и коллекционировании обуви. Для нее любовь заключалась в возможности завладеть новой парой туфель и отсутствии необходимости надевать сапоги и маршировать на параде, натирая мозоли.
Калеб спустился в подвал и вытащил из кармана мертвого воробья. Тот был почти раздавлен и являл собой бесформенную массу. Жаль. Его уже не вставишь в пазл. Печально. Столько усилий впустую. Столько усилий, превратившихся в бесформенную массу. Мертвые тела не обладали достаточной прочностью: Калеб прижимался к стене, пока папа говорил и говорил, а Касандра постоянно повторяла одно и то же, свое «Я люблю ее» с отвратительным запахом ржавчины, который, видимо, из всех членов семьи чувствовал только он.
У Калеба в голове застрял образ трусиков Касандры. Это воспоминание цвета фуксии порождало необычные щекочущие ощущения. Если старшая сестра носила такое нижнее белье, возможно, Тунис тоже. От имени кузины, от воспоминания о ней у Калеба по телу побежали мурашки. Ему было несложно представить себе Тунис в таких трусиках цвета фуксии, Тунис, пахнущую ржавчиной.
Лучше не думать о ней, об этой девушке в очках.
Тунис под запретом.
Калеб знал, что никогда больше не увидит кузину, после того как ее родители стали врагами народа.
То лето грозилось быть длинным и удушливо жарким.
Мальчик заставил себя думать о воробье, вернее, о той бесформенной массе с крылышками и чем-то похожим на клюв. Он искал ему место в своем произведении.
И тут Калеб услышал покашливание прямо у себя за плечом. В нос ударил запах ржавчины.
— Что ты здесь делаешь, Касандра? — спросил он. — Тебя разве не наказали?
— Ага. Ну и что?
При виде мертвого воробья на лице старшей сестры появилось отвращение. Калеб ожидал от нее оскорблений, но Касандра сжала губы и ничего не сказала.
— Что тебе нужно? — Он первый нарушил молчание.
— Папа слетел с катушек. Ты заметил? Признайся, что заметил.
— Это ты совсем поехала, любительница мостов.
— Точно, убийца воробьев, — со вздохом ответила Касандра. — Я серьезно. Если ты мне не поможешь…
— Даже не проси, Касандра. Оставь меня в покое. Не видишь — я занят.
— Отец сошел с ума. Это твои проблемы, если ты этого не понимаешь. Папа хочет превратиться в Усатого дедушку. Ты знаешь, чем это грозит?
— Мне все равно.
— Он начнет ставить на нас эксперименты. Плюс-минус как Усатый дедушка. Разве что тот — в масштабах страны.
— Слушай, Касандра, ты влюблена в мост, поэтому не говори мне об экспериментах. Оставь меня в покое.
— Такой человек, как папа, не откажется от власти — ее нужно у него забрать.
Калеб захлебнулся хохотом:
— А, значит, ты не только любительница мостов, но и враг народа.
Его старшая сестра пожала плечами:
— Ты не знаешь Усатого дедушку, Калеб. А я знаю. Только представь, что папа в него превратится. Он сделает твою жизнь невыносимой. И мою. Даже жизнь Калии. Ты не догадываешься. Даже не понимаешь, что это значит. У нас появятся новые законы…
— Оставь меня в покое.
— Идиот! Такой человек, как папа, опасен. Он все потерял. У него все отняли. Остались только мы. Как ты этого не понимаешь?!
— Слушай, да мне все равно. Отстань от меня.
Касандра потрогала пальцем мертвого воробья:
— Окей, дело твое, но ты об этом пожалеешь. Папа сошел с ума. И это лето будет длиться вечность, Калеб. Не говори потом, что я тебя не предупреждала.
Он не стал раздумывать над словами Касандры. Сказать по правде, сейчас его больше волновали воспоминания о потерянной кузине Тунис и ее очках. Больше всего ему хотелось представить ее розовые трусики, а еще сделать так, чтобы сплющенный воробей нашел свое место в его пазле из мертвых зверей.
— Почему тебе не нравятся бабочки, мама?
— Потому что они посланницы смерти.
— Откуда ты знаешь?
— Мне сказала об этом моя тетя.
— Ты их боишься?
— Бабочек? Немного. Но я не против, если ты их правда убиваешь.
— Нет! Они…
— Знаю, знаю, Калеб. Ты мне рассказывал: они тебя ищут, касаются крылом, и все. Падают. Убивают сами себя. Да, я знаю.
— Но так и есть.
— Значит, то, что про тебя говорит твоя сестра, тоже правда?
— Кролик умер сам.
— Калеб, ты можешь быть с мамой откровенным. Тебе нравится мучить животных?
— Нет!
— Если ты будешь что-то скрывать, мама не сможет тебе помочь.
— Я ничего с ними не делаю.
— Ты их травишь? Бьешь?
— Нет!
— Ты испытываешь удовольствие, когда дела ешь это?