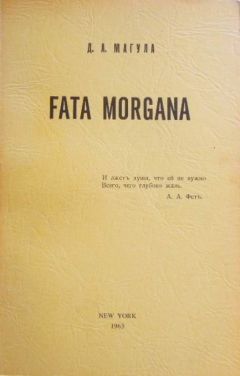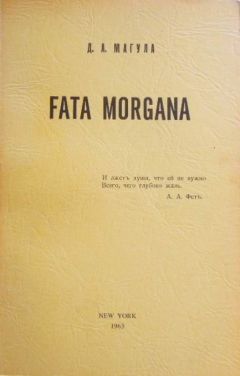Михаил Коцюбинский - Фата Моргана
Все трое поселились в конторе, в тех комнатах, где жил эконом. Жена требовала, чтобы Прокоп ночевал дома, ей было чудно без хозяина в хате, но он и слушать не хотел: его выбрали, и тут его место.
По ночам ему не спалось. Выходил из конторы, погружался в темноту осенней ночи и прислушивался, как сторож колотил в доску. Было странно и радостно вместе с тем. То, что недавно видел лишь в мечтах, теперь осуществлялось. Жизнь повернулась лицом к мужикам. Справедливость взглянула в глаза. Не будет больше ни бедных, ни богатых. Земля всех накормит. Народ сам выкует себе счастье, лишь бы не мешали. Вот эти дома, панские покои, по которым прежде бродил один ненасытный, жадный человек, теперь пойдут под школы. Тут станут собираться мужики, там будут чтения. Ему рисовалась новая жизнь, ночь расступалась, сияли огнями окна, голоса раздвигали стены, распрямляли грудь...
Еще не светало, а Прокоп будил работников, звенел ключами.
В руках у него вечно белела книжка. Он заносил в нее каждую народную копейку, каждый колос.
Из села приходили люди.
— Ну, как там экономия наша?
Всем было интересно, как ведется хозяйство, что управители делают, что лучше — разделить ли землю между людьми или, может, сообща обрабатывать поля и тогда уже делить хлеб. Маланка едва ли не во весь голос кричала, чтобы скорее делили. Им объясняли, водили на ток, на скотный двор, советовались, как использовать постройки.
— Тут бы стоило школу устроить,— говорил Прокоп.
Но Гуща шел дальше:
— Школа уже есть, лучше откроем народный университет.
Люди соглашались на все — на школу и на университет.
Пусть учатся мужики, не все же одним панам.
Панас Кандзюба смотрел на поле, начинавшееся у ворот и упиравшееся в горизонт, и все вздыхал. Ему было досадно, что пан сбежал, что не придется увидеть «пана в постолах».
А в поле вечно бродили какие-то фигуры и чернели на сером небе. Это нетерпеливые мерили землю, чтобы узнать, сколько придется на душу.
Маланка, подоткнув юбку и согнувшись, переставляла, как цапля, ноги по глинистой пашне.
***Хома смеялся, и нехорошо смеялся:
— Стережете панское добро? Ха-ха! Смотрите, смотрите, чтоб не пропало. Поблагодарит пан, когда вернется. А как же...
Зеленоватые глаза его прыгали, как лягушки на болоте.
— Вы думаете, пан сбежал, так уже и конец ему? Как раз! Такой не пропадет. Нагонит казаков полное село, да и шасть в теплый дом. Спасибо вам, мужики, что сберегли. На твоей спине запишет благодарность. Нет, если хочешь делать, делай так, чтоб у него не было охоты возвращаться, чтоб ему глядеть тошно было. Выкури дымом и огнем... Сровняй все с землей, чтобы было голо, точно ладонь...
Хома тыкал грубым пальцем в ладонь:
— Вот!.. Как ладонь.
Те, которым снились панские коровы, породистые гуси и другое добро, ловили слова Хомы.
Верно. Если бы не выдумал Гуща, у них все было б, как у людей. Станут ли еще делить землю или нет, кто его знает, а тем временем какая польза мужикам?
Андрий подымал изувеченную руку:
— Где ж правда? С нами так, а мы что же им за это?
И посматривал на винокуренный завод. Его раздражало, что он еще стоит, гордо подымает трубу, из которой весело валит дым, будто издевается.
— Пан убежал, а паныча Лелю на развод оставили. Пусть гонит, пане добродзею, водку. Хе-хе!
Хома сердился и тяжело дышал.
— Ясно. Так и будет стоять, что с ним сделаешь?
Но Хома знал, что делать. У него разговор короткий:
— Сжечь.
И это «сжечь», как ветер, со свистом вырывалось у него сквозь зубы.
Казалось чудом, что завод еще стоял. Только мозолил глаза. Всюду по селам покончили с панами, всюду дымились развалины, а тут винокуренный завод. Куда ни посмотришь — он. То труба бросится в глаза, то дым, как черный косматый змей, трепещет в воздухе. Ночью гудит гудок, и горят окна, как волчьи глаза, и ничего не изменилось на заводе, будто ничего и не произошло. Что за напасть! Теперь мужицкое право, не панское. Всюду разгромили панов — и все обошлось хорошо. Даже чужие смеются. Если б не Прокоп да не Гуща — давно б уже был всему конец. А паныч Леля? Какая польза от него? Как сосал народную кровь, так будет и дальше сосать. Андрия обидел, неужели ждать, пока и с другими то же приключится?
Андрий, как и прежде, жаловался, но теперь его рука стала сигналом:
— Смотрите, что делают с нами на заводе!
Брали его руку и внимательно рассматривали беспалую культяпку, будто видели впервые.
Папский пастух шатался всюду, и везде, где он появлялся, его зеленые глаза расшевеливали народ.
Даже сторонников Гущи.
— Чем мы хуже других?
***В среду знали уже, что это будет в четверг. Хома ходил от хаты к хате:
— Как ударят в колокол — выходи. Кто не выйдет — сожгу.
Он был на все готов; видно было, не шутит.
Поздно под пятницу горел свет, как в пасхальную ночь. Люди молча готовили топоры, колья, железные лопаты. Детские глаза следили с печи за каждым движением старших.
Иногда, когда звенела лопата, задетая кем-нибудь, или падал лом,— все пугались. Что, уже? Среди напряженного ожидания и тишины иногда вздрагивал воздух, словно гудел набат.
— Тс! Тише!
Прислушивались и, не веря самим себе, открывали дверь в сени или высовывали головы за порог. Холодная мелкая изморось сеялась с неба. Было сыро, неприветливо и тихо. Казалось, конца этому не будет. Пусть бы уже наконец подали знак, если это неминуемо. А может, Хома солгал, испугался и ничего не будет? Возвращались в хаты, бродили из угла в угол и еще раз осматривали приготовленное оружие.
Однако набат неожиданно раздался. Медь всколыхнула осенний туман и рассыпалась повсюду. Наконец! Всем стало легче. Выходили из хат, соединялись в группы и спешили. Внезапно разбуженные от холодного сна, колокола хрипло кричали и гнали вперед узловатые фигуры, искривленные непомерной работой, сливающуюся с темнотой массу тяжелых, мешковатых тел, кривых ног, крепких, как кувалды, рук.
Перед заводом толпа остановилась. Большой каменный дом, где жил паныч Леля и помещалась контора, тяжело серел на черном небе, холодный, темный, и только одно оконце неясно светилось, как полураскрытый глаз. Зато завод смеялся рядом красных окон и гордо попыхивал дымом.
Хома ходил среди людей, еще нерешительный, будто не знал, с чего начать. А около дома уже было движение. Кто-то бежал под стеной, подымался по лестнице, и слышно было, как хлопнула дверь. Потом окно погасло — и снова осветилось. Звуки набата колебали редкий туман, бились, разрывались, а в темноте колыхалась толпа. Внезапно открылась дверь, и оттуда послышалось тревожное:
— Кто там? Что вам надо?
Это паныч Леля... Леля.
— Что вам надо?
Хома вышел из толпы.
— Ага! Это ты? Нам тебя и надо. Иди сюда! — И скверно выругался.
Небольшая, одинокая на серой стене, фигура Лели отступила.
— Не подходи. Буду стрелять.
И сейчас же под домом блеснул, точно спичка, огонь, сухо треснуло что-то и раскололо тяжелым раскатом ночь.
Толпа замерла и отхлынула. От волнения на миг заколотились сердца. Но Хома поднял упавший дух.
— Го-го! Он еще стреляет? Бей его... бей!..
Это «бей» обожгло тело, как кнутом, оторвало ноги от земли, погнало, лишая соображения, вперед — в общем движении и дыхании, под натиском силы, вдруг пробудившейся от дремоты, подобно тому как подо льдом пробуждается река.
Темная прихожая застонала от топота ног, и под тяжестью тел, сбившихся в груду, задрожала лестница.
Где Леля? Никто не знал. Тут ли он или, может, убежал, бьют его или только ловят. Тело наваливалось на тело и чувствовало позади себя горячее дыхание, гнавшее вперед. У дверей произошла давка, а снизу все напирали. Двери были заперты. Хома старался их высадить плечом, и в густой темноте, в которой не видно было лица соседа, раздавались глухие удары, трещали сухие доски. Вдруг дверь подалась, и оттуда пахнуло, будто из бездны. Люди бросились вперед — в черную пропасть.
— Постойте, сейчас! — крикнул Хома.
Прошла минута.
И произошло чудо, короткий сон, ослепивший всех. Электрический свет внезапно залил большую комнату, словно кто-то махнул серебряным крылом, и отразился на паркете, в ряде больших зеркал, в золоте рам. Белые занавеси, как облачка на весеннем небе, слегка покачивались на окнах, зеленые деревья склонялись над шелком мебели, этажерки с безделушками блестели, как царские врата, а трехногий рояль, словно черный сказочный зверь, открыл широкую пасть и — освещенный — скалил блестящие белые большие зубы. Эта перемена была так неожиданна, что взволнованная толпа застыла, и лица, заполнив все зеркала, едва помещались в рамах.
Но Хома одним махом смазал картину.