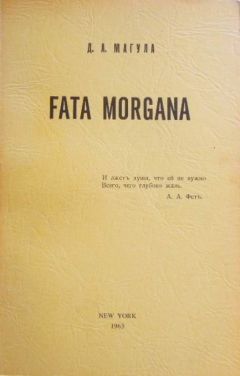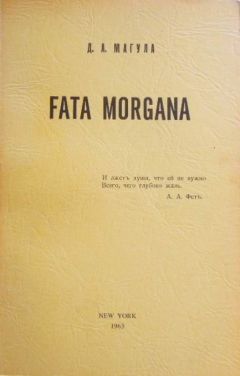Михаил Коцюбинский - Фата Моргана
Наконец! Крышки с дребезгом упали с цистерн, огонь коснулся спирта, и легкое голубое облачко заколыхалось над ним. Люди сбежались смотреть. Синеватый огонь, такой легкий и невинный, что, казалось, ожечь не может, мягко изгибался и выпрямлялся, будто плавал на спирте, и только иногда подымалась волна с красным гребнем.
Недовольный шепот прошел по толпе.
Это же горит спирт. Настоящий спирт.
Было досадно. При одной мысли жгло в горле, разливалось тепло в груди. Зачем было поджигать, не дав даже попробовать! Теперь ни панычу, ни людям. Огонь пожирает.
Олекса Безик едва не плакал. Неужели погибнет?
Он решил спасти спирт. Ему пришло в голову — нельзя ли зачерпнуть снизу. Ведь горело лишь сверху. Он нашел ковшик и протиснулся сквозь толпу.
— Куда ты?
Его хотели остановить,
Но Безик уже не мог остановиться и сунул руку прямо в огонь.
Синее пламя качнулось, плеснуло в черные края цистерны и упало на пол несколькими огненными клубами.
— Ой, братцы, печет! — крикнул Олекса.
У него горел рукав.
Это была попытка, правда, неудачная, но, казалось, не безнадежная. Огонь лишь сверху; внизу чистый, хороший спирт, надо только достать.
Толпа заволновалась.
Тц! Тц! Сколько добра пропадает! Сколько водки...
Во рту сохло, душа просила хоть окропить ее спиртом, хоть разок глотнуть, хоть обмочить губы, сухие от жажды. Разбить посудину? Пробить сбоку? Запах спирта щекотал ноздри, и горло, сводимое спазмами, глотало слюну.
Горящие глаза ощупывали цистерну, готовые влить в себя, осушить всю посудину, прочную, неприступную, покрытую огнем. Толпа даже затихла от сумасшедшей жажды, единая в своих желаниях и мыслях. А перед ней все выше и шире пылали чаши, полные огня, как жертвы неведомому богу.
Внезапно сзади раздался крик:
— Расступитесь! Дайте дорогу!
И не успели расступиться, как сквозь толпу пролетело что-то мокрое, все в жидкой грязи, забрызгало всех и кинулось прямо к огню. На мгновение только мигнула перед глазами черная фигура, поднятая рука и уже протянула людям ведерко огня, дымившееся, как сердце, только что вырванное из груди.
— Пейте!
Но как пить?
— Лей воду! Дайте воды...
Кто-то принес и плеснул ее в ведерко.
Огонь затих, согнулся, испустил последний вздох и умер.
— Ура! Водка!
Руки подымались и тянулись — дрожащие, но настойчивые — с одним непреодолимым желанием быстрее добыть, выхватить и оторвать от чужих уст теплое противное пойло.
— Давай! Сюда! Оставьте мне! Хватит, нам дайте...
Стоявшие ближе к дверям не надеялись получить водки.
Им надо было самим ее раздобыть. Они выбегали во двор, бросались в лужу, как были, в одежде, и катались в грязи в каком-то лихорадочном беспамятстве, чтобы лучше вымокнуть и без боязни прыгнуть в огонь.
Из густого осеннего тумана беспрестанно врывались на завод и лезли в огонь, точно ночные бабочки на свет, дикие, получеловеческие фигуры, мокрые, покрытые корой жидкой грязи, из-под которой блестели одни глаза.
Голубые огни все разрастались и уже цвели на гребнях красным цветом, как тучи на закате. По лицам разлились мертвые, синеватые тона. А среди отброшенных сломанными трубами и машинами теней, в ужасе бившихся по стенам, черные от грязи люди скакали в диком танце и черпали огонь из пылающих чаш.
— Кто хочет? Пейте!
Дом, где жил Леля, уже догорал. Падали балки в пропасть проемов и рассыпались снопами трескучих искр. Завод ровно пылал, весь налитый огнем, истекая пламенем через окна и двери, как рана кровью.
Широкие крылья осенних туч рдели тихо над ним, простершись в бездне ночи.
***На другой день всюду было тихо. Люди ходили вялые, опустошенные будто, ленивые. Черная, закопченная труба торчала на холме вместо завода; невольно она привлекала взор, и было странно, что глаз не упирался, как до сих пор, в стены, а устремлялся куда-то дальше, в пустоту поля и рыжих холмов.
Андрий пошел осматривать развалины. На еще дымившемся пожарище попадались любопытные. Белый дымок лениво вился над завалившимися стенами, точно пар в холод из ноздрей скота. В широких проемах окон белели кафельные печи, словно зубы в челюстях скелета. Босые дети рылись в теплой земле, находя всякие обломки и мелкие полуистлевшие вещи. Дети ссорились и дрались, как воробьи.
Андрий вошел внутрь. При темноватом свете серого дня, лившегося сквозь дыры окон и через потолок, все казалось чужим, странным, непохожим на то, что было вчера. Вчера тут были машины — теплые, живые, крепкие аппараты, которые упирались и не давались, когда их били. Сегодня они лежали сломанные, пустые, согнутые вдвое, с пробитыми боками, рыжие, облезлые. Медные трубки бессильно протягивали согнутые концы, сплющенные, смятые, точно раздавленные кишки, и красная ржавчина от огня выступала на них кровавым потом.
Андрий удивлялся. Неужели это он одной рукой смог нанести железу такие глубокие раны? Он переводил глаза от своих рук на машины и только пожимал плечами. Неужели это он? Уже не чувствовал злости, как прежде, она куда-то исчезла в одну ночь. Ему даже жаль стало этих аппаратов, он так долго ухаживал за ними, точно нянька за ребенком.
Андрий тихо вздохнул и вдруг почувствовал, что рядом кто-то шевелится.
Панас Кандзюба стоял среди обломков, тяжелый и серый, как груда перегоревшего кирпича.
— Начисто все сломали,— откликнулся Андрий.
— Разве это мы?
Андрий удивился.
— Как же не мы? А кто ж?
— Нечистая сила.
В глазах Кандзюбы была такая уверенность и такой ужас, что мороз прошел по коже у Андрия.
— Никто как нечистая сила.
К заводу подъезжали подводы и отъезжали, полные железа, кирпича, обгоревших балок.
— Разберем все, сровняем с землей,— говорили друг другу мужики, но уже оглядывались, какие-то неуверенные, и в занесенных над лошадьми кнутах, и в поспешном грохоте колес чувствовалась тревога.
Под вечер по селу разнеслось, что идут казаки. Кто пустил слух, откуда он взялся, никто хорошо не знал. Рассказывали только, что станут обыскивать и у кого что-нибудь найдут — тому не миновать расстрела.
По-видимому, это дело паныча Лели. Выпустили живым, а теперь людям беда. Надо было сразу убить, а тогда и поджигать. Да уже поздно. Не поможет.
Что делать? Как спасаться?
Беда так внезапно подкралась и так неожиданно разразилась, что никто даже не решался думать, как предотвратить ее. Известие принимали как что-то предрешенное, как нечто неминуемое, словно смерть больного.
Некоторые надеялись спастись. Они тайком бросали в пруд взятое железо или зарывали его в землю, что у кого оставалось. Да разве это поможет? Разве, случись что, не выдадут?
Однако ночь прошла спокойно, а ясный холодный день и совсем успокоил село.
Кто-то выдумал, видно. За что же будут наказывать, если вокруг то же самое. Всюду сожгли и разгромили панские усадьбы,— ведь такое право настало.
Прошло с полдня, а в селе тихо, ничего не произошло.
Прокоп хозяйничал на панском поле, пахал под яровое, кончал поздний сев. Работа шла своим порядком — пан не возвращался отбирать землю, у паныча Лели тоже, видно, не было охоты смотреть на пожарище. Всюду было спокойно, и слухи глохли. Никто им больше не верил.
Прошла и другая ночь. Выбросившие добро в пруд теперь жалели.
Однако весть грянула как гром среди ясного неба. Теперь уже точно. Олекса Безик ездил в местечко, но с дороги вернулся. В деревню Тернивку прибыли войска. Согнали людей, кого расстреляли, кого зарубили, остальных забрали в город. Обыскивают, вяжут, бьют.
— Ждите и к нам. Теперь и нам не миновать.
Теперь неминуемо. Это было ясно.
Панас Кандзюба упорно почесывал за ухом:
— Значит, и нас перестреляют?
Его испуганные глаза, полные недоумения, тщетно искали помощи.
Олекса Безик будто ничего не знал. Он пожимал плечами:
— Я не жег, мне ничего не будет.
— Разве ты с нами не был?
— Я? Сохрани боже. Я сидел дома.
— Вот как. А я тебя видел собственными глазами.
— Кого? Меня? Лопни у того глаза, кто меня видел. Сам поджигал, а говорит на других.
— Я поджигал? А ты докажешь?
— Я докажу.
Виноватых не было. Одни сваливали вину на других, а те на следующих. Выходило так, что все были дома, а если и забегали на завод, то так только, поглядеть. Кто же не смог отрицать своего участия, тот всех обвинял. Село виновато, село и ответит. Но село не хотело отвечать. Упреки и ссоры подымали старую вражду, всплывали забытые обиды и грехи. Наиболее сдержанные всех успокаивали. Замолчите. Ничего не будет. Теперь наша сила и наше право.
В полдень от проезжих услыхали про Осьмаки. Там казаки подожгли деревню, потому что мужики не хотели выдать виновных. Деревня горит.
Тогда пошли нарекания. За что всем пропадать? Разве не Хома подговаривал? Не он созывал народ? Хома и Андрий. Не миновать беды и за панскую землю. Пока не было Гущи, в селе было спокойно. Что тут говорить. Гуща и Прокоп взбунтовали народ, они во всем виноваты. Говорили: народное право, наша земля, а теперь — казаки.