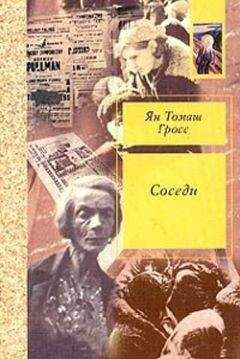Михаил Коцюбинский - Он идет

Обзор книги Михаил Коцюбинский - Он идет
М.М. Коцюбинский
ОН ИДЕТ
[1]Приметы были плохие. Становой, кажется, не удовлетворен был взяткой, и, хотя обещал, что не допустит погрома, ему верили мало. Хуже всего было то, что никто наверно не знал, отменят ли крестный ход с образом спаса, который должен был состояться завтра после церковной службы. Об этом с тревогой говорили в местечке, и лавочники, забыв о покупателях, оставляли свои лавки на волю божью, а сами собирались кучками на площади, посреди местечка. Здесь приглушенными, таинственными голосами, тревожно озираясь вокруг, передавали друг другу о каких-то подозрительных чужих людях, которые появились недавно в местечке, о панках-черносотенцах, которые были бы рады погрому, и о том, что их «пурицы», купцы побогаче, с раннего утра начали убегать из местечка со своими женами и детьми. Иногда разговор становился горячим и бурным, слова гремели, как возы с железом, и белые руки лавочников то и дело мелькали перед рыжими бородами. Но когда раздавался вдруг грохот колес по мостовой и большая бричка балагулы подкатывала к одному из домов побогаче, всеми окнами глядевшему на площадь, разговоры стихали, и все хмуро и злобно смотрели, как выносят поспешно из дверей всякий скарб, сундуки и подушки и бричка до краев наполняется женщинами и кудрявыми детьми. Когда же бричка исчезала наконец в облаках серой пыли, разговоры снова оживлялись и переходили в крик. Извозчик Иосель, крепкий, высокий мужчина, метался по базару с кнутом в грубых, узловатых руках и хвалился, что уже отправил все три своих фургона. Он уверял, что к вечеру в местечке не будет ни одной подводы.
Солнце еще не зашло, однако лавки уже начали закрываться. Всюду скрипели железные засовы, бренчали замки и ключи, гремели двери, заслоняя черный зев,— и в одно мгновение серые древние стены рынка выбросили вон всех людей. Площадь на минуту ожила, стала людной. Старые балабусты собрали со столиков булки и баранки, покрытые пылью, весь свой жалкий товар. Они охали, стонали и, сгибаясь под тяжестью корзин, спешили домой. Черные кучки понурых, охваченных волнением людей растекались с базара по тесным улочкам,— и на площади стало так пусто и тихо, точно весь гомон жизни обратился вдруг в серый камень.
Приближался вечер. Солнце росло, пламенело и медленно опускалось вниз. Красный туман поднимался на западе, и словно кровавые призраки надвигались оттуда на город. Сначала робко, поодиночке, а потом сплошными рядами. Беззвучной процессией прошли они между опустевшими стенами, оставляя на камне горячие красные следы и отражаясь в окнах своими кровавыми лицами. Древние стены дрожали от ужаса всеми своими морщинами, и только красные маки, которые росли вверху по карнизам, приветствовали гостей смехом. А когда солнце село и пришла ночь, как черная дума земли, красные гости исчезли и местечко совсем замерло.
В доме старого шойхета Абрума, при свете сальных свечей, шло совещание. Там собрались одни старые, почтенные люди, с морщинами опыта на бледных лицах, с белыми бородами, как у далеких предков. Все говорили разом, ибо всех одно волновало. Одни хотели собрать еще денег для станового, другим приходила в голову мысль просить защиты у попов. Иные же советовали собраться в синагоге и в молитвах провести ночь. Великий бог, который вывел израильтян из пустыни и доныне не дал им утонуть в волнах зависти других народов, еще раз отвратит от них руку врага. Все это было хорошо, но не могло ни объединить, ни успокоить. Когда же извозчик Иосель, у которого была крепкая грудь, перекричал всех и заявил, что молодежь решила защищаться, что она будет стрелять, и вытянул перед собой кнут, как револьвер,— ужас сковал всем уста и белые бороды, как увядшие, упали на грудь. Потом поднялся шум. Старый шойхет Абрум, который на своем долгом веку спокойно перерезывал горло тысячам кур и гусей, побелел и закричал: «Как! Они хотят стрелять! Эти сумасшедшие, эти безумцы! Эти политики! Они хотят пролить кровь, которая падет па наши же головы. Они накличут месть, и месть, как волк, пожрет наших детей, весь мирный народ!.. Ай-ай!..»
И все кричали вместе с Абрумом, кричали беззубые рты, кричали морщины мудрости и опыта, тряслись бороды и белые худые руки. И от возмущения и крика всем стало душно, и все почувствовали облегчение, как будто криком они прогнали из дома тревогу.
Это яростное возмущение скоро, однако, прошло, и крики понемногу затихли. Снова возник все тот же вопрос: что же делать? Время шло, и каждая минута, умирая навеки, рождала другую, а та приближала страшную неизвестность. Никто уже ничего не советовал. Все чувствовали усталость. И чем яснее становилось, что ничем не поможешь, что нельзя даже бежать, потому что нет лошадей, люди начали верить в чудо. Случится что-нибудь такое, что отвратит беду, крестный ход пройдет спокойно и не затронет никого. Может, не так уж все плохо? Может, ничего не случится?
Кому-то пришла в голову мысль: что скажет слепая Эстерка? Ведите сюда Эстерку!.. Она все предугадает...
И все пожелали услышать, что скажет Эстерка.
Извозчик Иосель и зять Абрума поднялись, чтобы привести слепую.
Она еще не спала. На пороге темной, как и хозяйка, хаты она сидела черной глыбой и, казалось, пела. Тихие жалобные звуки, словно плач дитяти, шли снизу, от черной глыбы, и так удивительно и страшно было слушать эту песню, что Иосель остановил своего товарища и не решался окликнуть старуху. Он не мог разобрать, поет ли она или плачет. Наконец решился и тихонько позвал:
— Бобе!.. Бобе Эстерка!..
Внизу дрожали все те же звуки.
— Бобе!.. Послушайте, бобе!
Пение стихло, и послышалось продолжительное жалобное сморкание. Когда они рассказали ей, зачем пришли, она молча встала и простерла во тьму дрожащие руки, ища опоры. Ее взяли под руки и повели. Двери темной хаты остались открытыми настежь.
Всюду, где они проходили мимо освещенных окон и открытых дверей, к ним присоединялись женщины и мужчины; дети неслись за ними, как пыль. Все шептали друг другу, что слепую Эстерку, которая предугадала смерть своих детей и потом выплакала по ним глаза, ведут к шойхету.
В комнате у Абрума набилось столько народу, что стало трудно дышать. Когда же открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, свет упал на целое море напряженных, взволнованных лиц, и в окно влетела стоокая тревога.
И все увидели Эстерку, ее окаменевшее от горя лицо и красные глаза, из которых непрестанно стекала слеза. Словно ветер овеял все лица. Ай-ай!
Абрум хотел ее посадить, но она не села. Только оперлась руками о подлокотники стула. Ее спрашивали, ей говорили, но она не слышала. Что ей было до этого? Она, носившая в сердце великое горе, которое не могло там уместиться и лилось из слепых глаз, видела только своих сыновей, о них говорила. Она описывала все подробности, которых никогда не видала, потому что была далеко, рисовала картину так, точно она была выжжена на ее красных веках, закрывавших глаза. И голос ее звучал, как у ветхозаветных пророков.
— Я вижу зверей... всюду звери... В глазах у них огонь, а на зубах кровь... человеческая, красная... А в сердцах их волчья жадность... Они несут своего бога, и на кольях, которые они держат, кровь... кровь сыновей моих бедных. Ай-ай!
— Ай-ай! — вырвался тихий вздох из десятков грудей в доме и под окном.
— А их попы поют и черными устами возносят хвалу господу богу, а на ризах у них кровь... человеческая кровь... И рычат с попами кровавые звери и разбивают о камень головы деточек малых... Ай-ай!
— Ай-ай! — Вздох трепещет вокруг, и свет от него меркнет в доме.
— Вот под ногами у меня кровь... Черная, запекшаяся... большие черные лужи. Лежат женщины, белые как мел, и глядят их мертвые глаза на мужей... на трупы детей... И скачут по детям опьяневшие звери и ревут: смерть! смерть!
— Ай-ай! — стонут в доме и плачут на улице.
— Огонь и смерть!.. Я вижу руки, я вижу глаза, они просят пощады... Я слышу крик... Рушатся стены... стреляют... Ад... Ох, душно мне... Ох, мое сердце... А теперь слышите? Ша! Бегут по лестнице... ломают двери... А там мои дети... мои сыны милые... Ай-ай!.. Спасите! Не бейте... Лежит мой Хаим... лежит мой Лейба, они же кормили старенькую маму... и больше не встанут... Ой-ой! ай-ай!..
— Ай-ай! ай-ай! — подхватывают люди вопль, и становится тоскливо и страшно, как в Судный день.
А бобе Эстерка все говорила, и слезы все текли из ее слепых глаз. Разбитый старческий голос иногда звенел, как голос пророка, и тогда тишина воцарялась вокруг и люди, затаив дыхание, на дно сердца слагали каждое слово старухи, как тяжкую скорбь. Может, это не Эстерка говорит, а сама их судьба, и красный туман, который навис над ними сейчас, обратится завтра в действительность. Может, дети, которые сейчас прижимаются теплыми личиками к материнским коленям, завтра будут валяться на улицах мертвые, и их будут топтать тяжелые сапожищи пьяной толпы... Ай-ай!..