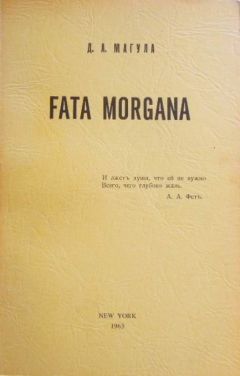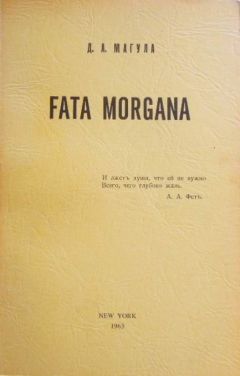Михаил Коцюбинский - Фата Моргана
Ходила и Маланка.
Она едва приволокла мешочек муки, тяжело дышала и стонала.
Андрий уписывал вкусные паляницы да все похваливал, но Маланка не ела.
— Почему не ешь? — удивлялся Андрий.
— Не могу. Чужое оно.
— Зачем же ты брала?
— Все брали, взяла и я.
Мука мешала Маланке, как покойник в хате. Она не знала, куда ее деть.
Богатеи притаились. Их точно и вовсе не было в селе.
— Что-то наших верховодов не слыхать, испугались, сидят по хатам, — смеялись люди.
Но там, где их было много, они не молчали.
Панас Кандзюба, вернувшись от сестры из Песков, рассказывал:
— Прихожу в село, будни, а люди — в церковь. Остановили и спрашивают — кто и почему, зачем пришел, к кому. Осматривают, будто я вор. Ну, хорошо. Зять тоже в церкви. Глянул на сестру, а она едва на ногах стоит, а глаза красные и мутные. Ах, боже... «Что с тобой, говорю, больна?» А она в плач. «Не больна, говорит, боюсь. От бессонницы извелась. Пятую ночь не спим, не гасим огня, опасаемся, как бы не задремать. Ждем поджигателей».— «Кого ждете?» — «Голытьбу. Передавали — ждите нас, будем жечь. Чтоб не было ни бедных, ни богатых, одни средние». Страх берет людей. Днем еще ничего, видно — кто идет, кто едет, а приходит ночь — бережемся. Вчера вышел мой на улицу, уже солнце садилось, и скачет кто-то верхом. Мой на колокольню, ударил в набат. У меня сердце так и упало. Это ж поджигатели. Сбежались люди, стащили верховых с лошадей, связали, повели в сборню. «Жечь хотите нас? Бей их!» Те кричат: «Мы сами гонимся, говорят, за поджигателями». Никто не верит. Да уж церковный староста спас. Если б не узнал, тут бы им и конец».
Рассказывает сестра, а сама вся трясется. Ах, боже... А тут зять пришел из церкви. Синяки под глазами,— видно, уморился. Ну, хорошо. «Какой у вас праздник нынче?» — спрашиваю. «Праздника нет, а люди молебен служили, чтоб отвратил бог беду. Одна надежда на бога».
Сидим, разговариваем о том, о сем, а зять нет-нет и клюнет носом — дремлет. Сестра тоже едва продерет глаза, чтобы слово вымолвить. Ну, хорошо! Уже смерклось,— какой теперь день! — поужинали, свет горит. Пора бы и спать — не спят. Вышел я из хаты — по селу огни, никто не ложится... Ах, боже... Так как-то не по себе стало мне, страшно. А наши сидят. Заскребется под лавкой мышь, а они уже навострили уши. Поздно, уже все сроки прошли ложиться, не спят. Слышим, петухи поют, а в окно видно, как среди ночи всюду мигает свет по селу. Когда вдруг что-то — бах! Стрельнул кто-то из ружья. Так по селу и покатилось. Ну, хорошо. Сестра застыла на месте, только руками схватилась за грудь, а зять вскочил — и в сени. Схватил железные вилы — и дальше. А я за ним. Бегу и вижу, из хат выскакивает народ, кто с чем. Ах, боже... Куда бежать? Где? Кто стрелял? Выбежали за село, какие-то люди стоят. Не спрашивая, бросились бить. Били смертным боем, куда попало, пока не отогнали. До самого рассвета никто уже не спал, а утром пошли смотреть. Восемь лежало готовых, один был еще теплый, стонал...
***Назначено было сойтись на площади к сборне. Гуща пришел раньше. Он беспокойно бродил под крыльцом и все посматривал. Прокоп уже был здесь.
— Не сходятся что-то,— тревожился Марко.
— Еще рано, придут.
Однако и Прокоп волновался. Нелегко было утихомирить народ. Вокруг были погромы, пожары, пронесшиеся по деревням огненным ветром, всё захватившие своим вихрем. Люди не хотели отличаться от других, от соседей, и немало требовалось труда, чтобы остановить их. Но Гуща и Прокоп победили. Они доказали людям, что не надо жечь и разрушать народное добро. Не пан ставил дома. Мужичьи руки укладывали бревно к бревну, балку к балке, и все это должно было теперь служить мужикам. Сегодня должно было решиться, кто победил,— они или Хома, подбивавший все уничтожить, все жечь.
Народ понемногу собирался. Вот показался Семен Мажуга во главе целой толпы. Панас Кандзюба тоже вел мужиков.
Площадь наполнилась и начинала шуметь. Марко пожимал всем руки, ему было душно, что-то подкатывалось к горлу, и, услыхав свой голос, он его не узнал.
— А знамя принесли?
— Вот оно! Есть,— откликнулся Мажуга и, развернув, поднял.
— Больше не придут?
— Должно быть, все.
Можно было выступать. Но не выступали.
Только когда знамя качнулось и тихо поплыло в воздухе, зашевелились и пошли. Ноги шлепали по грязи, словно раки в мешке шептались, а кособокие халупки, бедные, оборванные, как-то недоуменно глядели на этот поток.
Панская усадьба дремала, сонная и пустая. Там будто никого не было. Только псы заворчали и попрятались. Народ влился через ворота во двор, словно вода сквозь горлышко бутылки. Из конюшни показался кучер. Гуща велел позвать пана.
— Пана нет.
— А где же он?
— Сбежал ночью.
Волна прошла по народу.
Сбежал? Ну, хорошо. Пускай выйдет приказчик.
Ян вышел из конторы бледный и без шапки. Его холодные глаза тревожно заметались по людям. Он бессознательно отступил назад. Но Гуща остановил его, вытащил из кармана бумагу и начал разворачивать. Среди необычайной тишины слышалось только, как шелестели листочки. Казалось, что Гуща слишком медленно это делает. Наконец он кашлянул, выпрямился и высоким, будто чужим голосом приступил к чтению. Все уже знали этот приговор, но теперь он казался новым, торжественным, как слова, слышанные в церкви. Так, так. Уже знали, что с нынешнего дня земля не панская, а мужицкая, что народ берет ее назад, в свою собственность. Ниву, освященную трудом дедов и внуков.
Все слушали молча, затаив дыхание.
Гуща кончил и обратился к Яну:
— Ты нам не нужен. Укладывайся и убирайся.
Ян хотел что-то сказать, но не мог. И только беззвучно шевелились его побелевшие губы да чего-то искали дрожащие руки.
Он пошатнулся и, как пьяный, направился в контору.
Но там не остался. Через минуту выскочил, испуганно взглянул на толпу и хрипло крикнул:
— Мусий! Запрягай бричку!..
Панаса Кандзюбу это взорвало:
— Бричку! А телеги навозной не хочешь? Слышите, мужики, он хочет бричку!
Народ словно проснулся. Послышался смех.
— Вишь, пан. Чего захотел. Прошло его время...
— Не давать бричку.
— Готовь, Мусий, телегу.
— На которой навоз возят.
Мусий бросился к телеге.
Но Ян не захотел.
— Не надо лошадей. Пустите, пойду пешком.
— С богом!..
Эконом надвинул шапку и как-то боком прошел сквозь толпу. Его глаза, будто захваченные врасплох мыши, с ужасом встречали каждое лицо, руки готовы были защищаться, но никто его не тронул. Наконец, когда Ян очутился за воротами, всем стало легче, точно соринка выпала из глаза.
Надо было принимать экономию.
— Как будем принимать?
— Выберем троих. Пускай хозяйничают. Там будет видно.
— Довольно троих. Прокопа, Гущу и Безика, может...
— Нет, лучше Мажугу...
— Пишите приговор.
Олекса Безик вынес на середину двора стол, Гуща примостился за ним.
Стояло серое осеннее утро. Все было серым. Небо, далекое поле, голый вишняк за домом, постройки и мужики. Дух конского навоза и свежих яблок крепко держался в воздухе.
Стлался шум. Маланка никому не давала покоя. Надо б написать, чтоб скорее делили землю. Чего ждать? И так довольно ждали. Пусть каждый уже знал бы, что принадлежит ему и где. Ее глаза горели, и она всем надоедала. Запах яблок щекотал ноздри. Почему бы не отведать? Хотя оно и народное добро, как говорит Гуща, но в доме, наверно, много любопытных вещей. Наливок, мягких подушек, посуды да всяких чудных безделушек, которых мужику и видеть не приходилось. Неужели все это останется там? Молодицы заглядывали в окна. Ключница будто догадалась, вынесла из погреба две корзины яблок и всех угощала.
Тем временем Гуща кончил. Народ подходил долго, и долго тяжелые рабочие руки выводили каракули или ставили крест, чтобы было крепче.
Прокоп созвал всю челядь, отобрал ключи.
— Кто не хочет служить обществу, может уходить из усадьбы.
Не захотели ключница и кучер. Их не удерживали.
Усадьба понемногу опустела. Остались только те, кого выбрали — Прокоп, Гуща, Мажуга.
Панская усадьба перешла к народу.
Никто так искренне не заботился о народном добре, как Прокоп. По целым дням он бегал от гумна к конюшне, от скотного двора к току, выдавал работникам харчи, лошадям овес, зерно птицам. Всюду сам смотрел, наводил порядок. И все записывал в книжку, чтобы знали, что куда и сколько пошло. Качал головой и удивлялся: какой беспорядок! Нет, все-таки пан плохой хозяин. Гибло добро без хозяйского глаза. Надо хлеб молотить, а машина до сих пор неисправна. Плуги заржавели, нет лемехов, на лошадях порванные шлеи. Все требует труда и денег, а денег не было. Тогда посоветовались все вместе, и Прокоп повез продавать пшеницу.
Все трое поселились в конторе, в тех комнатах, где жил эконом. Жена требовала, чтобы Прокоп ночевал дома, ей было чудно без хозяина в хате, но он и слушать не хотел: его выбрали, и тут его место.