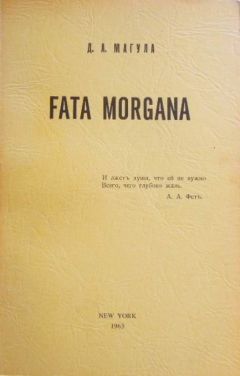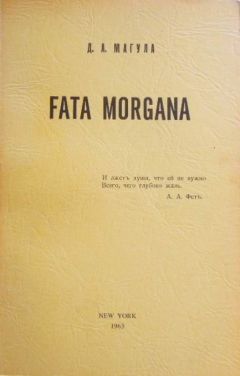Михаил Коцюбинский - Фата Моргана
Наконец Пидпара вставал и выходил. У Гафийки колотилось сердце, и в такт его ударам раздавались шаги Пидпары около сарая, возле стожков, хрустели на подмерзших лужах под стенами хаты.
Хозяин иногда выбирался на ночь в поле, под клуню. Тогда хозяйка снова бродила всю ночь, боялась, стонала, охала и шаркала башмаками от окна к окну.
Гафийке иногда становилось так тяжело, что она просилась на ночь домой.
Маланка поздно ложилась. Андрий вечно был где-то на людях и возвращался поздно, а Маланка весь вечер мечтала. Что-то будет. Придет что-то прекрасное и переменит жизнь. Что-то вдруг случится — не сегодня, так завтра — чудо какое- то. Ей не хотелось ничего делать, и, сложив руки, как в воскресенье, она вышивала словами хитрые узоры. Вместе с Гафийкой она становилась на пороге в сенях и долго смотрела, как всюду светятся окна по деревне. Там в каждой хате чего-то ждут, готовые вспыхнуть, как сухой хворост, который осталось только поджечь. В каждой хате цветет надежда, растут ожидания.
И, наверно, никогда еще так много не уходило керосину, как в эти длинные тревожные осенние ночи.
***Ветер прыгал с разбегу, рвал голоса и выл, а бледное и скудное солнце высыпало из-за туч на землю свое последнее золото.
Гафийка ловила белье, разметанное ветром по двору, как стадо белых гусей. Хозяйская рубашка, надувшись, катилась круглая, будто беременная, и ловила рукавами землю. Ветер свистел Гафийке в уши, ей казалось, что ее зовут.
Нет, в самом деле зовут. Она оглянулась.
У ворот ей махал Прокоп.
— Чего ты?
Она не расслышала, что он говорит.
— Что там такое?
— Неси твой флаг.
За воротами было полно народу. Тут и Маланка со своими высохшими руками, и неуклюжий Панас Кандзюба, и дети, скакавшие под плетнем, как воробьи.
— Быстрее выноси!
— Что случилось?
Гафийка бросилась в хату.
Несколько рук протянулось к Гафийке, но Прокоп взял сам.
Он уже привязывал красную китайку к древку.
Народ нетерпеливо гудел. Все-таки дождались. Пришел манифест. Пидпара стоял на пороге хаты, черный, как тень, подпер плечом косяк и молча глядел.
Наконец флаг подняли. Красная китайка затрепетала на ветру, и запрыгали на ней слова, будто живые.
«Земля и воля!»
Все подняли глаза, и что-то прокатилось по толпе, словно вздох.
И двинулись дальше. Гафийка забыла о белье. Она шла вместе с толпой точно во сне. Что-то произошло. Ожидаемое, правда, желанное, но неясное. Какой-то манифест.
Рядом с ней Прокоп; ей казалось, что он сразу вырос. Его большие натруженные руки спокойно держали древко, ноги ступали твердо.
Из неясного гомона толпы вырывались отдельные слова:
— Слава богу, дождались люди...
— Всем хватит, всем хватит! — звенела Маланка.
Ветер рвал эти слова и бросал назад:
— Всем хватит, наша земля...
— Теперь, пане добродзею, отольются волку овечьи слезы.
На красном лице Андрия седые усы белели, как два голубя.
Панас Кандзюба сиял:
— Обуем, Андрий, пана в постолы!..
— А как же!
У плетней красные детские ноги разбрызгивали грязь. Дети забегали вперед и пищали:
— Земля и воля! Земля и воля!
Знамя развевалось, словно огонь на ветру.
Из хат высыпали люди. Они снимали шапки, крестились и присоединялись. Встречные заворачивали назад.
— В сборню! Там манифест!
Народ затопил дорогу.
Было в людях что-то новое. Глубокие глаза горели на серых лицах, как свет в церковном сумраке. Гафийке казалось, что она понимает каждую душу и каждую мысль, как свою собственную. Что-то торжественное было в трепете знамени, в тихой грусти осеннего солнца, в взволнованно-светлых лицах. Словно в темную весеннюю ночь таяли восковые свечи в руках и хором плыло к звездам: «Христос воскрес».
Внезапно передние остановились.
Из-за угла показался другой поток и преградил дорогу. И там красное знамя было впереди.
Прокоп высоко поднял свое знамя.
— Земля и воля!
— Земля и воля! Поздравляем с праздником.
— И вас также...
Все смешались.
Маланка уже обнимала кузнечиху.
— Кумушка, кума...
Не могла говорить.
Они целовались. Сухие Маланкины руки тряслись на толстых боках кузнечихи.
— Слава тебе, господи, слава...
Ветер сорвал у кузнечихи слезу с кончика носа.
Двинулись дальше. Теперь два знамени, соединившись, поплыли вместе. Они волновались, они извивались, как окрыленное ветром пламя.
Народ облепил сборню так густо, что свитки слились в одну общую массу и нечем было дышать. На крыльце что-то читал Гуща. Он уже устал, охрип, но пришедшие позже тоже хотели слышать. Дальние вытягивали шеи, прикладывали ладони к ушам. Передние не хотели никого пропускать, чтобы еще раз услышать. А люди все шли и наваливались друг другу на плечи.
— Что ж он читает — воля, свобода, а где же земля?
— Разве не слышишь? Он только про землю и читает.
Низенькую Маланку совсем затерли. В тепле, в испарениях человеческих тел ей совсем хорошо. Она не слушает. Зачем? И так известно. Это уже все знают, что землю отдали людям. Лучше б, чем тут стоять, пойти всем вместе на панское поле, пустить по нему плуг. Посмотреть скорее, как он взрезает немереные поля, отваливает пласт, наделяет людей. Вот твое, а это мое... Чтобы поровну всем. А они тут стоят! Смотрите! Даже Андрий поднял искалеченную руку, показывая ее мужикам, чтобы не забыли про него. А давно ль проклинал землю? Ну, это дело прошлое. Теперь она добрая, зла не помнит, не сердится на Андрия. Сама земля улыбается ей, говорит с нею. Вон как играет на солнце рыжим жнивьем.
У сборни собрался весь мир.
Село опустело. Одиноко извивались между хатами грязные дороги, словно ползли черные змеи, ветер выдергивал солому по стрехам[37], а на разрытые огороды спускались тучи воронья.
Какая-то старуха, выбравшись из хаты, держалась за стены и сердито кричала в пустоту:
— Где люди? Горит что? А!
Никто не отвечал ей. Только ветер стучал дверями покинутых хат, коровы блуждали по дворам да грызлись собаки в ворохах сухих листьев.
Народ понемногу возвращался из сборни.
Двое идут:
— Слыхал? Свобода, воля, а какая воля?
— Откуда я знаю? Бить панов.
— А я понял сразу. Дадена воля, чтобы черный народ истребил панов. Которых, значит, мужики кормят.
Бабы:
— Как будут отбирать экономию у пана, я возьму только рыжую корову.
— А мне б только пару гусей на развод. Такие хорошие гуси...
— Будет что взять. Не возьмем мы — возьмут чужие, а пан-то ведь наш...
— Известно. Не дадим никому своего.
Парубки вдруг наполнили улицу песнями.
Около хат богатеев они останавливались, подымали в воздух знамя и во весь голос выкрикивали:
— Земля и воля!
Если попрятались, пусть хоть услышат. Это им — как перец собаке...
Гущу и Прокопа едва не разрывали. Как же это будет? Скоро начнут делить землю? А купленную землю отберут?
Марко хрипел, едва успевая отвечать на все стороны, а Прокоп был спокоен, как всегда.
Маланка ловила его за полы:
— Прокоп, слушай меня... Это я, Маланка... Подождите ж, мужики, дайте сказать. Слышишь, Прокоп, слышишь, чтоб мне отрезали поближе, там, где пшеница родит... Смотри, не забудь... Слышишь, Прокоп, а?
Она все кланялась, сухая и маленькая, охваченная одним непреодолимым желанием.
Каждый день приносил какую-нибудь новость. Там экономию разобрали до основания, там сожгли водочный или сахарный завод, а в другом месте рубили панские леса, пахали землю. И ничего за это не было. Паны бежали, исчезали перед лицом народа, как солома в огне. Ежедневно ветер приносил свежий дым, а люди — свежие рассказы, и никто больше не удивлялся. Вчера это была сказка, сегодня действительность,— что ж удивительного в этом? Правда, винокуренный завод паныча Лели, экономия пана,— мозолили глаза. Чего еще ждут?
— Разве мы хуже людей? Ведь решили.
Недовольные были, но брали верх Гуща и Прокоп.
Однако по вечерам кое-кто запрягал лошадей и порожняком украдкой выезжал на ночь из села. Ходили и пешком. Засовывали топор за пояс, брали мешок под мышку и тянулись по полю в соседние деревни за панским добром. Ночью по грязным дорогам беспрестанно катились фуры, нагруженные мешками с зерном, картошкой, сахаром. Пешие возвращались конными, верхом на панских лошадях, или гнали перед собой корову. На другой день спали до полудня, и только по колесам, запачканным в навозе, соседи угадывали, что тот или другой ездил ночью за добычей. Иногда дети играли новыми игрушками — осколками пузырьков, дверными ручками, или молодица шила на зависть другим роскошный очипок[38] из материи, которой паны обивали мебель.
Ходила и Маланка.
Она едва приволокла мешочек муки, тяжело дышала и стонала.