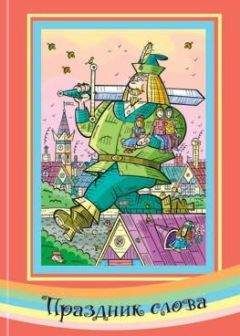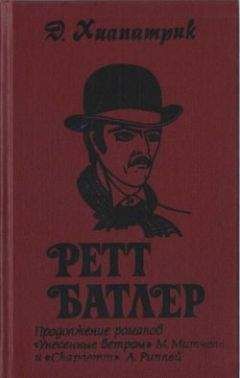Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Он пьянел прямо на глазах. Его речь сделалась неровной.
– Немцы хуже большевиков! Вот Антон Иванович Деникин отказался с ними якшаться. Он за Россию единую и недель… Неделимую. А мне, получается, все равно, с кем коммунистов резать? Нет! Я своей родине тоже верен. Знаете ли вы, что я… ротмистр Пятого …
Инструктор растопырил пальцы.
– Пятого гусарского Александрийского… полка…
Покачавшись из стороны в сторону, он снова заметил Полотова.
– Вот ты, – чиновник ткнул в актера, – скажи мне. Только не ври… Что хочешь для себя заработать – Железный крест или Героя Советского Союза? Ну что так на меня глядишь. Да ты сам в этом дерьме по уши!
В комнате, предоставленной гастролирующим артистам, на стене висел портрет Тургенева.
Полотов сгорбился над столом.
– Ты видела, какой у той девушки… ну, у палача… взгляд?
– Я старалась не смотреть на нее.
– А я не мог глаз отвести. Знаешь, она и сейчас передо мной стоит.
Анна обняла Полотова сзади за плечи, прижалась губами к его взъерошенному затылку, но он не унимался.
– Настоящая Горгона! А ведь до войны мы одни песни с ней пели, по одним улицам ходили, на одном метро ездили.
– Говорю тебе, я не всматривалась, – как можно ровнее ответила Анна. – Если ты будешь постоянно об этом думать, то сойдешь с ума… Ниша, мы выступим еще раз и уедем отсюда.
Полотов вскочил, стал ходить вокруг стола, нервно жестикулируя.
– Куда мы уедем? Куда? Они везде! Они что-то любезное мне говорят, даже улыбаются, а я слышу: Гликберг, твое место в овраге за ипподромом. Вот поставят тебя рядом с другими несчастными, и эта… вас из пулемета… Ее глаз в прорези… Я всю жизнь помнил, что я еврей. За псевдонимом не спрячешься. Но не от смерти же я раньше прятался!
– Ниша…
Он в отчаянии ударил кулаком по стене. Тургеневский портрет свалился на пол, но стена не опустела. На ней обнаружилась картинка со Сталиным: «Кадры решают все».
Вождь в блестящих сапогах и длинной шинели приветственно махал рукой на фоне счастливой толпы.
– А под ним кто прикноплен? Царь-батюшка?
Полотов приподнял картинку – дальше на стене были только точки от клопов.
– Вот мне интересно… Я все про эту, которая с пулеметом… Какими словами она будет потом оправдываться? Скажет, что выживала? И еще эти молодые, бывшие красноармейцы. Советская власть им дала и образование, и будущее. А они ее так быстро… Вава, и мы… Ведь это наш союз со злом!
Анна старалась отвечать спокойно:
– Мы с тобой всего лишь играем и поем репертуар, который играли и пели в Москве. Это несравнимые вещи.
– Конечно, несравнимые, – устало затих он. – Прости, замучил я тебя…
Ночью за досками скреблась мышь. Полотов спал с приоткрытым ртом, обдавая Анну запахом шнапса. Пекарская тихо лежала, глядя на него. Она вдруг осознала, что почти не вспоминает Максима. Конечно, она скучает по их прогулкам и веселым ужинам, но ей теперь дорог вот этот, задиристый и беспомощный, с вихром на макушке. Он ровно дышит рядом, а она днем и ночью задыхается от страха за него, и ее сердце бьется быстрее обычного. Так матери бывает страшно за ребенка. Какую цену ей придется заплатить за привязанность к нему?
Лицо Полотова было спокойным, хотя морщинка между его бровями так и не разгладилась. На Анну накатила нежность.
– Бедный ты мой…
Не просыпаясь, он улыбнулся, по-детски прижался к ней, тепло засопел ей в грудь.
Шел третий год войны. Маленькую русскую труппу везли все дальше на запад, вместе с отступающими немецкими войсками. Пекарская, Полотов, семейная пара пожилых провинциальных циркачей и клоун Сережа уместились в кузове грузовика со своим театральным реквизитом и пожитками. Новый антрепренер сидел не с ними, как это делал Финк, а в кабине с шофером.
После побега Семилетовых немцы ужесточили режим, и антрепренер обращался с артистами как с пленными. Этот герр Шнайдер носил в нагрудном кармане карточку своих детишек. Он часто рассматривал ее. Но стоило ему поднять глаза на русских, нежная пелена в его взгляде сменялась презрением. Даже красота Анны для него не существовала – красивыми могли быть только чистокровные арийки.
Грузовичок обогнал толпу местных жителей с чемоданами и мешками. Их гнали на работы в Германию. Шли женщины, подростки и дети. Самые маленькие были в возрасте второклассников, они тащили свои узелки, помогая матерям.
Дальше по всей длине дороги, насколько хватало обзора, двигались немецкие колонны. В хвосте молодые новобранцы конвоировали рабочую силу, изможденных советских пленных. Огромные волы, впряженные в повозки, тянули армейский груз. У солдат вермахта были хмурые лица. Они шагали с опаской, изредка переговариваясь между собой. Немецкая армия давно потеряла свой победоносный вид.
Грузовик остановился на обочине, и антрепренер выпрыгнул из кабины. Встав за распахнутой дверцей, он справил нужду прямо на дорогу, потом заглянул в кузов к артистам. Его глаза, как всегда, смотрели сквозь них. Издалека доносилась стрельба дальнобойных пушек Красной армии.
Шнайдер показал на придорожные заросли.
– Делайте свои дела по-быстрому. Я не хочу стать добычей ваших бандитов.
Партизаны мерещились немцам под каждым кустом. Полотов давно не рассказывал на концертах шутку про пьяного зайца – солдат вермахта больше не веселили истории русского леса и его обитателей. Они проводили карательные операции, расстреливали заложников, а партизан становилось все больше. В глухих болотистых лесах теперь жила целая армия.
На железнодорожной станции артистов погрузили в вагоны. Проехав пустоту и бедность Польши, они попали в строгую геометрию ухоженных полей и домов. Германия показалась им концентрацией тяжелой силы, а Берлин окончательно придавил их, как многотонный серый булыжник, заставив с тоской подумать о легких и светлых русских городах.
Перрон был переполнен пассажирами и их багажом. Из-за бомбежек немцы приезжали на свой Силезский вокзал за несколько часов до отхода поездов. Когда Пекарская и Полотов вышли из вагона, им пришлось протискиваться сквозь толпу. В высоких арках над головами людей висели гигантские полотнища. Черные пауки свастик напоминали каждому прибывшему, что теперь он в столице Третьего рейха.
– Просто мечтал оказаться здесь, – пробормотал Полотов.
Анна сама переживала, что их затягивает все глубже. Но, как всегда, она успокоила Нишу, а заодно и себя:
– Война скоро закончится, нас освободят.
Актеры принадлежали «Винете». Ее штаб находился в Берлине. Названная в честь мифического города славян, «Винета» подчинялась отделу «Восток» имперского Министерства пропаганды. В самом начале войны она создавала плакаты, листовки, пластинки, делала русскую озвучку фильмов и вещала в эфире. Геббельс даже приказал «винетовским» голосам имитировать известных советских дикторов, но идея провалилась, потому что у граждан СССР не стало радиоприемников.
Да и сама пропаганда постепенно уступила место обычному культпросвету. Артисты приходили в «Винету» ради сносной жизни, а не из убеждений. Почти пятьдесят групп развлекали власовцев и остарбайтеров. Маленькой труппе, в которую входили Пекарская и Полотов, предстояло сделаться одной из них.
На просмотр в «Винету» они отправились на городской электричке. За окнами мелькал Берлин: рельсы, железо, фонари, стрелки, семафоры, одинаковые дома, одинаковые красные кирхи. Даже дворцы в этом чужом городе казались собранными на конвейере.
В вагоне эсбана [16] спокойно улыбались широкие женщины в мужских шляпах и туфлях без каблука, негромко разговаривали мужчины в униформе. Все эти немцы казались приветливыми, но Анна многое бы сейчас отдала, чтобы услышать сердитый крик московской кондукторши: «А ну-ка, подружнее обилечиваемся, граждане!» Хотя бы ненадолго оказаться в родной атмосфере нервных тычков, брани и в то же время безграничного великодушия.