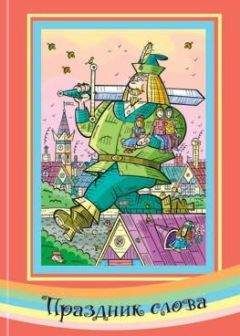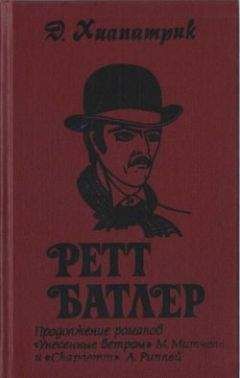Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Выйдя из электрички, они долго шли чистыми серенькими улицами, совсем растерявшись от бестолковой подковообразной нумерации домов. Она начиналась на одной стороне улицы и продолжалась до ее конца, затем возвращаясь на другую сторону. Железные мосты грохотали над головой – один, другой, третий. Берлин выл и стучал, как тяжелая шарманка. Ее механизм был наполовину разрушен бомбардировками, но она продолжала свой заунывный марш про колесики и колеса, которые должны крутиться для победы.
Почти каждый встречный немец был в униформе, все зиговали. То тут, то там бросались в глаза патриотические плакаты: с детьми, женщинами, пожилыми рабочими в картузах, с солдатами, похожими на марширующие манекены. У нарисованных немцев, даже у младенцев, были чеканные профили, волевые лица и ясные глаза. Но сами берлинцы оказались обыкновенными людьми, не похожими на высшую расу.
«Винета» располагалась в тихом респектабельном квартале. На воротах никаких указателей не было, лишь висела эмалевая табличка со свастикой: «Германия здоровается „Хайль Гитлер“. Внутри особняк гудел, как улей. Стучали многочисленные машинки, по коридору бегали барышни с бумагами. На стене висел плакат, который Пекарская и Полотов часто видели в первый год войны. Фюрер в военной форме, с биноклем в руках, сосредоточенно всматривался вдаль. «Гитлер освободитель». Только в этот раз надпись на специальной клеевой ленте плаката была на украинском: «Вiзволитель».
Дверь в одну из комнат была распахнута. Там крепко сбитый, похожий на профессора мужчина кричал в телефонную трубку:
– У нас с ними свои шшоты! И будет им усем шшастья!
На столе перед ним стояли небрежно прикрытые газетой стаканы, лежали ломоть черного хлеба, надкусанная половина луковицы и брусок сала с налипшими табачными крошками. В углу поблескивали пустые бутылки из-под коньяка и шнапса, рядом с ними была прислонена к стенке гитара с бантом. На все это удивленно таращил свои кроткие глаза сидевший в клетке карликовый рыжий кролик.
Когда-то в особняке находилось иранское посольство, при дипломатах здесь было тихо и чинно. Русские быстро оживили атмосферу. Присматривающие за ними немцы жаловались на чрезмерное потребление шнапса и сигарет, на бурные романы между сотрудниками и сотрудницами, но ничего не могли с этим поделать.
Обладатель густого южного говора бросил телефонную трубку на рычаги.
– Не, ну шо за люди!
Он наконец заметил посетителей:
– Если вы обратно по концертному вопросу, то прослушивания дальше по коридору…
Но актеры вдруг заинтересовали разговорчивого «профессора». Он явно скучал в своем кабинете.
– А шо, вы недавно в Берлине?
Этот человек был здесь одним из главных. Он пообещал Пекарской и Полотову, что все у них будет хорошо: в Германии сотрудники «Винеты» приравнены к гражданским служащим и получают жилье, карточки и зарплату. Только надо быть осторожными – не выходить за рамки репертуара.
– Морфесси помните? Ну, оперный наш… Вляпался мужик по самые уши. Спел «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу усю держа в руках». А немцы приняли это на шшот фюрера. Мы еле объяснили, шо опера та старая, о Наполеоне. Но карьера после того – тю-тю!
«Профессор» изобразил пальцем движение вверх по спирали – именно так, по его мнению, улетела в трубу удача бедного Морфесси.
– Гибше работать надо… Гляньте, шо за ерунду они раньше тут навыпускали.
Он стал рыться в ящике стола, мокро чихнул, другой рукой полез за носовым платком, громко в него высморкался, при этом продолжая перебирать содержимое ящика.
– Ну где она, вчера только видал… Во, нашел!
Он показал листовку, знакомую артистам еще по Вязьме.
– Эмигранты наши придумали… «Бей жида политрука, морда просит кирпича». Ну шо ж за ужас! Позорище! Разве ж можно так вульгарно? Вот скажите мне!
Пекарская с Полотовым молча смотрели на него. К счастью, их собеседник и не ждал ответа.
– Я в том смысле – почему не заменили «кирпич» «кулаком»? Рифма была бы! Вот советские куда тоньшее.
«Профессор» извлек из ящика другую листовку. На ней были фотографии крестов: железного наградного и березовых могильных. И слова на немецком о том, что на востоке воздух сырой, но скоро он станет еще влажнее и холоднее. Железные кресты заржавеют, деревянные вырастут на глазах.
Дохнув чесноком и перегаром, он помахал советской листовкой.
– Произведение искусства! Во как надо. А не «морда просит кирпича»!
Программу Пекарской и Полотова просматривала комиссия, состоявшая из киевской балерины со строгим пробором и немца в пенсне. Проверявшие согласились, что репертуар подходящий. Только в песне про Стеньку Разина надо петь: «Волга мощная река». Слово «русская» находилось под запретом.
Маленькой труппе оставили все тех же пожилых циркачей, клоуна Сережу и добавили джаз-банд. «Винета» даже нашла для Пекарской и Полотова комнатку у одной фрау. Но ее владелица, hauswirtin, пока сопротивлялась, поэтому актерам пришлось временно поселиться в лагере остарбайтеров.
Их семейный барак и стоявшие рядом женские были окружены колючей проволокой. Угнанные из России девушки работали в две смены на местном заводе. На ногах у них были грубые деревянные башмаки, на одежде – нашивки с белыми буквами «OST». Но жизнь этих девчонок была все же полегче концлагерной. Им даже был разрешен выходной.
Остовки пригласили Анну на воскресный вечер самодеятельности. Пекарская пришла, и их серые лица повернулись к ней с любопытством и восхищением. Большинство девчонок были из Курска. Они, как могли, создали уют в своей тюрьме. На окнах висели занавески, нары с трухлявыми соломенными матрасами были аккуратно застелены жиденькими одеялами.
Худой парень с выпирающим кадыком играл на гармони. Рядом с ним бойко пела девушка.
Из-под ее ресниц блестели глаза сорванца. Она вдобавок пританцовывала, помахивая забинтованной рукой.
После нее запели другие. Все было очень просто в их песнях: гармошка, любовь, родимая сторонка. И гармонист был самый простой. Подобных ему, сероглазых и русоволосых, рожали миллионы матерей в русских деревнях и городках. Но он играл так, что в душе совершался переворот.
Бойкая присела рядом с Анной.
– Нас тут за наши песни курскими соловьями прозвали. А Сашок, – девушка кивнула на гармониста, – он всех нас оживляет. Он из шахты к нам недавно прибежал. Боимся мы за него…
Бойкая вздохнула, поправила свою марлевую повязку.
– На днях в станок угодила. Кровищи было, ужас! Но, считай, легко отделалась. У нас одна девчонка пальцы потеряла, а другой волосы прям с кожей выдрало. Не женская это работа, мужчины и то не всегда с этими станками справляются.
Она жаловалась Анне, словно та была близким человеком.
– Какая же в этой Германии тоска. Вот росла я папиной дочкой, с подругами в театр ходила, на собраниях была первой, голову высоко держала. А теперь я ОСТ – «остерегайся советской твари». Хоть бы на минутку увидеть своих… Поесть еды нормальной…
На завтрак пленницам давали эрзац-кофе из желудей и ломтик хлеба с маргарином. Девушка показала толщину ломтика.
– Разве такой скибочкой можно наесться?
Их основной едой было жидкое варево из гнилой картошки и брюквы. Пекарскую и Полотова кормили получше: хлеба давали больше, они ели тот же суп, что и работавшие в лагере немцы – он тоже был с надоевшей брюквой, но в нем попадались кусочки мяса.
– А спойте нам, пожалуйста, – вдруг попросила девушка.
– Что же вам спеть? – спросила Анна.
Бойкая смутилась.
– «Васильки» [17]. Моя мама эту песню любит…
Гармонист, услышав их разговор, уже начал наигрывать мелодию.
Отказать было невозможно. Пекарская сняла пальто, передала его Полотову. Ох, васильки, васильки, сколько мелькает вас в поле… До войны этот романс казался ей наивным. Но то было до войны. Гармонист играл, оставаясь невозмутимым. Он был очень талантлив, этот Сашок. Его душа находилась сейчас далеко, а гармонь в его руках сама рассказывала о васильковых полях, синеющих в неведомой дали.