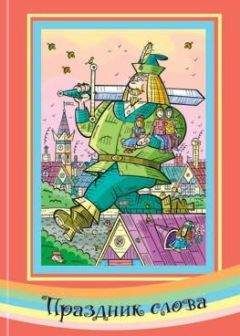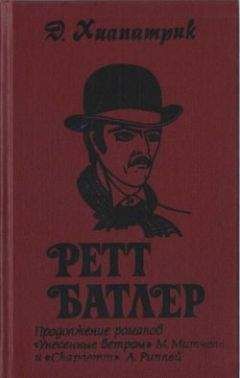Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Говоря за лисичку, Полотов щурил глаза, играл воображаемым хвостом и, согнув кисти рук, прижимал их к груди, словно это были лапы. Довольные солдаты смеялись.
– А теперь перенесемся из холодного леса на цирковую арену! Предлагаю вашему вниманию буффонаду! Ее покажут звезды московского цирка Иван и Капитолина Семилетовы!
Семилетовым было трудновато без брата, но на помощь приходил рыжий клоун Сережа. После их музыкальных шуток на сцене появилась «звезда экрана и мюзик-холла» Анна Пекарская.
Анна в накрахмаленном марлевом платье, окрашенном луковой шелухой и зеленкой, совсем не походила на приму. Из пышных воланов торчали худые руки. На ее ногах болтались не по размеру большие босоножки, другой обуви на разграбленном городском складе не нашлось. Перед концертом она вдобавок сожгла свои волосы щипцами. Оставалось только представлять себя нищей французской девчонкой на городской площади.
Еще никогда ей не было так страшно на сцене. Зрители казались однородной угрожающей массой, в полумраке зала поблескивали их бутылки и начищенные пряжки ремней. Как хорошо, что ее колени прикрыты марлей. Никто, кроме странной старухи в шляпе и красном шарфе, не замечает их дрожь. Старуха сидела в первом ряду, с жалостливым укором глядя на Пекарскую.
Когда Анна запела ту самую песенку Иварсона, в зале вдруг зародился ритм. Бум-бум-бум! Это солдаты стучали по подлокотникам кресел. Те, у кого руки были заняты бутылками, топали по полу. Немцы отбивали такт все громче, словно это была не весенняя песенка, а военный марш. В памяти Анны всплыл образ: хозяин кукольного театра ритмично щелкает плеткой перед своими актерами.
Иван Семилетов с Полотовым стояли за кулисой.
Иван обеспокоенно спросил:
– Чего это они?
– Это они так аплодируют, – объяснил Полотов. – Привыкай.
Последним номером была их коронная песня про Стеньку. Ее исполняла вся труппа, даже клоун Сережа. Солдаты хорошо знали мелодию, они стали подпевать на свой лад, забивая голоса актеров. Только их песня была про немецкую «мутер» Wolga.
Артисты продолжали петь по-русски. Боже, каким позором было стоять на этой сцене! Анна поискала в зале старуху – той нигде не было.
Нетрезвые солдаты, войдя в раж, загорланили свою пивную песню.
– Айн прозит, айн прозит! – нестройно раздавалось в разных концах зала.
В грим-уборной после концерта звучало радио: немка Лале Андерсен неторопливо пела о сладких свиданиях под уличным фонарем. Наушники переносной радиостанции лежали в кастрюле, получалось достаточно громко. Песню передавали по несколько раз в день, но слушатели на фронте требовали еще и еще. Это стало похожим на эпидемию.
В грим-уборную вошел подвыпивший антрепренер с красивой квадратной корзинкой для пикника в руках. В ней лежало что-то тяжелое. Игриво помахав корзиной перед актерами, Финк поставил ее на стол и тоже присел послушать радио. Слова песни были незатейливыми, но вызывали острую тоску по мирным временам. Девушка по имени Лили Марлен часто прибегала на свидания к своему солдату. Их тени под уличным фонарем сливались в одну. Все видели счастье влюбленных. Фонарь у ворот опустевшей казармы горит до сих пор, девушка по-прежнему приходит сюда. Но больше нет встреч. Увидимся ли снова, Лили Марлен… Mit Dir, Lili Marleen…
Вернер подпевал, дирижируя одной рукой и покачиваясь из стороны в сторону. Он хорошо знал певицу, они вместе выступали в берлинских кабаре. Ее настоящее имя было Лизалотта.
Песня закончилась, а растроганный антрепренер все никак не мог успокоиться:
– Ну разве не чудо наша Лизалотта? А вот дорогой доктор Геббельс терпеть не может «Лили Марлен». Под нее не помаршируешь! Он Лизалотте выступать запрещал. Мы, как могли, подкармливали бедняжку, когда она без работы сидела… Кстати, о продуктах!
Антрепренер подвинул корзину к артистам.
– Вам к Рождеству.
Анна подняла плетеную крышку и увидела красиво уложенные деликатесы и бутылку шнапса. Деликатесы были типичным немецким эрзацем – прямоугольные разовые упаковки с кофе, кружочки шоколадок, бисквиты, цилиндр с какой-то лимонной пудрой, колбасные консервы. Но от одного их вида закружилась голова.
– Все прошло прекрасно, друзья мои!
И Финк добавил по-русски:
– Вполне!
Он часто повторял это слово.
– Вернер, можно поинтересоваться, откуда у вас это «вполне»?
– А, еще одна берлинская история!
У входа в «Катакомбы» стоял русский вышибала, очень представительный мужчина – «вот с такими усами», показал Финк. Полковник царской армии. Силач. Бузотеры боялись с ним связываться. Полковник плохо понимал немецкую речь, но всегда внимательно слушал и кивал. И говорил это свое «вполне». Его ценили как прекрасного собеседника.
Финк достал сигару, сжал ее своими пухлыми губами, раскуривая. Ароматный дым заклубился над его молодой блестящей лысиной.
– Изумительный вкус у этой кубинской! Их перестали продавать с самого начала войны. А друг прислал мне целый ящик к Рождеству… Какой сюрприз! Вы знаете, что с сигарами надо вести себя иначе, чем с сигаретами? Сигары не любят торопливых. Вы набираете полный рот дыма и ждете, ждете, пока она раскроет свой вкус… Потом медленно выпускаете дым изо рта. Вот так…
Антрепренер медленно выдохнул, растягивая наслаждение. Длинный столбик пепла на его сигаре был готов обломиться, и Финк щелкнул по нему, небрежно сбросив на пол.
– Хотите анекдот? Гитлер спрашивает у своего астролога, кто виноват, что дела идут все хуже. Тот отвечает: «Евреи». «Но у меня их давно нет!» – удивляется Гитлер. «А у ваших врагов есть!»
Казалось, Финка не заботило, что кто-то еще может его услышать.
– Ох, Вернер, прошу вас, будьте осторожнее.
– Знаю, знаю, дорогая Анхен.
Глаза антрепренера заискрились смехом.
– Но я не заставлял вас улыбаться!
Финк наставительно погрозил Анне и Полотову:
– Аплодировать и хохотать можно только всем вместе. И только в правильных местах!
Он провел пальцами вдоль губ, как бы застегивая свой болтливый рот на молнию. Сигара помешала ему, антрепренер изобразил, что застежку заело, и опять рассмеялся.
– Ладно, не будем больше об этих уродах. Какие платья и парик привезти вам из Берлина, дорогая Анхен?
Только позже Анна узнала, что в тот день он отдал им свою собственную рождественскую корзину, а сам остался без деликатесов.
Легкий крупповский грузовик подпрыгивал на ухабах. Актрис укачало. Сидевший в кузове вместе с труппой Финк не умолкая говорил и много смеялся, но в глубине его глаз почему-то мелькало беспокойство. Он, как всегда, рассказывал истории из своей берлинской жизни.
Анна уже столько раз слышала от него, что в Берлине особенный воздух. При словах Berliner luft в ее голове возникали образы воздушного десерта и раздавался опереточный марш про город, где все цветет и процветает.
Припевы этого неофициального берлинского гимна: «Luft, luft, luft! Duft, duft, duft! Pufft, pufft, pufft!» – казались отрывисто лающими «вуф-вуф-вуф».
Край, куда труппа приехала поздней осенью 1942 года, был бесконечно далек от блистательного Берлина. Он вдобавок показался безлюдным. На сотни километров тянулись черные вековые леса, лишь несколько раз выглянули хутора и деревни, лепившиеся по краям болот, да мелькнул на полустанке деревянный вокзальчик.
Жизнь в этих местах, конечно, существовала всегда. Просто она шла своим неспешным ходом. Летом колосилась пшеница, коровы перед закатом солнца с мычанием возвращались домой с пастбищ. Женщины и дети ждали их на деревенских улицах, подзывая звонкими голосами. А зимой среди белого спокойствия и синих теней медленно ползли розвальни с сеном, и раскрасневшиеся ребятишки, визжа, катались с горок.
В древние времена Комарицкая волость была дальним пограничьем Московии, цари ссылали сюда провинившихся стрельцов. Здешний народ всегда отличался своеволием. В Смутное время комаринские мужики присягали самозванцам. Крепостное право их почти не затронуло, но они успели побыть колхозниками. Нельзя было сказать, что им это понравилось.