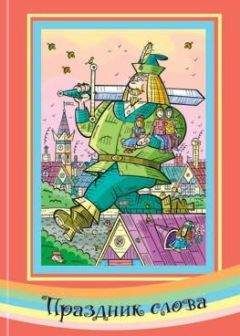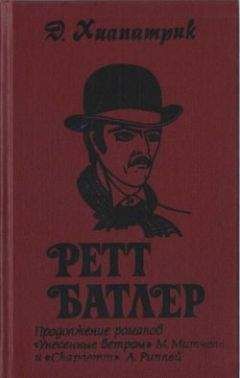Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Поразмыслив, чиновник что-то пометил в своей тетради.
– Хорошо. Мы выдадим вам «бишайнигунг». Получите зарплату, паек, пропуска по городу. А нам нужны от вас музыка и веселье. Оперетты лучше всего. Только никакой «Сильвы», Кальман – еврей. И постепенно заменяйте русскую речь немецкой. И чтобы ничего советского. Скоро Рождество, вы будете выступать перед солдатами вермахта.
Заметив, как побледнели актеры, он слегка возвысил голос:
– Вы знаете, что русский театр начинался с немецкого? Еще пастор Грегори из Немецкой слободы со своими учениками…
Но остатки тринадцатой бригады продолжали сопротивляться: они не успеют подготовиться, у них даже нет музыкальных инструментов.
– Инструменты найдутся. Вы станете частью русской труппы, у вас будет профессиональный антрепренер из Берлина.
– У меня нет концертного платья, – не сдавалась Пекарская.
Немец негромко стукнул карандашом по столу, и актеры сразу замолчали.
– Возьмете на складе марлю и сошьете. Или вы желаете в лагерь?
Уже на улице, на ступеньках управы, Анна потрогала свои горящие щеки.
– Ниша, только не говори мне сейчас, что ты не знаешь немецкий.
– Знал.
– Придется снова учить.
– Да понял я все! Смотри, я уже пять минут, как казачий чуб начал отращивать.
– Порепетируй немецкие шутки.
– Видел я их тупые шутки. Комик показывает в подробностях, как женщина натирается мочалкой… Потом его собачка поднимает заднюю лапу над букетом цветов и стоит так несколько минут… Ну и попали мы в переплет, Вава.
– Да, попали. Выступим один раз. А там, может, что-то изменится.
Через несколько дней к маленькой труппе добавился еще один человек из фронтовой бригады номер тринадцать. Это был рыжий клоун Сережа. Он тоже проделал свой долгий путь в Вязьму. Сережа рассказал про Дорфа и Бродина. Оба погибли, как и работали – вместе. Узнав, что они евреи, немцы повесили их рядом.
На немецком кладбище у разрушенной церкви из-под снега выглядывали верхушки березовых крестов с нахлобученными на них касками. На овальных табличках чернели жуки готических букв. Казалось, целая армия выстроилась в шеренги под снегом.
Пекарская и Полотов шли на репетицию, нащупывая ногами тропинку, где поплотнее, чтоб не оступиться. За несколько дней вся Вязьма превратилась в большой сугроб.
Дорога была расчищена только возле казармы, где квартировала рота пропаганды. Немцы выгружали там из грузовика провизию: свежезабитых кур, бутыли с мутным растительным маслом, мешки с картошкой. Весь деревенский провиант лежал в открытом кузове, хозяйственно прикрытый школьной географической картой, как брезентом.
На школьной карте к огромной РСФСР примыкали яркие лоскутки советских республик и присоединенных прибалтийских, западноукраинских земель. После нескольких месяцев войны этих границ больше не существовало. Новая, еще не успевшая обтрепаться карта устарела.
Один солдат, жестикулируя, рассказывал что-то смешное товарищам, и те громко гоготали. Шутник выглядел совсем не по-военному в своей куцей, подвязанной ремнем шинельке. Это был тот самый антрепренер, возглавивший русскую труппу. Его звали Вернер Финк.
Увидев Пекарскую и Полотова, он радостно поспешил к ним навстречу.
– Даниэл, Анна – гутен так!
На его замерзшем носу болталась прозрачная капля.
– Холодно! У меня воротничок и пилотка просто деревянные от мороза, – пожаловался Финк.
Трикотажная труба «ток», надетая под пилотку, совсем не грела его. Он показал на свой ботинок, из которого выглядывал уголок газеты.
– Вот, приказали утепляться прессой. Хоть какая-то польза от пропаганды доктора Геббельса.
Финк зашагал рядом.
– А я, друзья мои, после Рождества уезжаю в командировку, в Берлин!
– Это хорошие новости, Вернер? – спросил Полотов на своем ломаном немецком.
– Это замечательные новости! Привезу вам музыкальные инструменты и костюмы для выступлений.
Антрепренер общался с ними на равных. Все трое были актерами и ровесниками – для Финка этого оказалось достаточно. Он собирался что-то еще сообщить, но перехватил остановившийся взгляд Полотова.
Тот смотрел на виселицу на площади. На веревке раскачивался мертвый молодой мужчина со связанными за спиной руками. Рядом с ним висела, уронив набок голову, та самая девушка, которую Пекарская с Полотовым не так давно видели живой. У нее было черное лицо. Ветер развевал ее легкие русые волосы.
К виселице была прибита табличка с крупной, чтобы издалека читалась, надписью: «Так кончает партизан и тот, который помагает». Буквы были выведены старательной рукой.
– Я прошу прощения… – глухо произнес Финк после молчания. – За всю Германию. Мой народ обезумел.
– Вернер, вашей личной вины здесь нет, – сказала Анна.
– Есть! Я немец. Как говорится, одна империя, один народ, одна ошибка! Если я не вернусь из Берлина, дорогие мои, то… Что ж, передам привет… с того света.
– У вас неприятности? – забеспокоилась Анна.
– А! Длинная история. – Антрепренер махнул рукой. Но было заметно, что он ждет, когда собеседники попросят рассказать ее.
Им и вправду было интересно. И Финк начал:
– Кабаре «Катакомбы» – слышали о таком?
Пекарская с Полотовым переглянулись, пожали плечами.
– Не слышали? Обижаете, наше кабаре было очень популярным! – улыбнулся Финк. – Ну да ладно, это сейчас не важно. Я там много чего болтал со сцены… Кто в Германии главный электрик? Угадайте! Наш электрик подсоединил Австрию, отключил Россию и до сих пор продолжает играть с переключателями.
Я выступал, а эти гады все записывали, не скрываясь… Однажды я спросил их: не слишком ли быстро говорю, успевают ли они следовать за мной? Или мне пора собирать свои вещички и следовать за ними? Поверьте, я далек от политики, я просто индивидуалист. В общем, мы с друзьями оказались в Эстервегене. Это лагерь. Сам Геббельс меня посадил… Все мои друзья погибли. А мне повезло, что Геббельс с Герингом друг друга не переносят! Геринг и выпустил меня на свободу.
Финк жизнерадостно рассмеялся.
– Гарантий, конечно, не дали. Поэтому я решил спасать свою шкуру в вермахте на Восточном фронте!
У него была эластичная, как будто резиновая улыбка и идеальное для комика лицо. Когда улыбались губы, взгляд оставался холодным (Полотов потом назвал это «глазами Сальери над моцартовской улыбкой»). И наоборот – при безразличной линии рта Финк мог весь искриться добродушным весельем. Наверняка он замечательно выглядел на сцене в своих «Катакомбах».
На рождественском концерте зал был полон. От зрителей пахло ваксой, дешевым одеколоном и выпивкой. На сцену вышли Финк и Полотов. Финк поежился, потопал ногами, как на морозе.
– До чего жуткий холод в этой России! Не правда ли, друзья? – обратился он к солдатам. – Мы вчера ехали в грузовике по полю и немного подорвались на мине… Надо же было такому случиться! Короче, я выскочил из горящей кабины и… сразу залез обратно!
Зрители вяло посмеялись. Они любили Вернера и его шутки, но русский мороз приносил им слишком много страданий.
Финк громко вздохнул и развел руками.
– Вечная проблема комика! Если ты рассмешишь людей, тебя не примут всерьез. А если к тебе относятся серьезно, тогда ты плохой комик… Все, ухожу с должности! И не уговаривайте! У вас будет новый конферансье. Это…
Он широким жестом указал на Полотова и крикнул, растягивая слова:
– Зна-а-аменитость московской сце-е-ены! На-а-аш дорогой… Даниэ-эл!
Полотов шагнул вперед, старательно заговорил по-немецки.
– Добрый вечер, господа! Счастливого всем Рождества! Знаете, где я был на днях? В местном лесу. Выбирал там рождественскую елку и познакомился с очаровательной рыжей… лисичкой.
Немцы одобрительно загудели, предвкушая смешную историю.
– Лисичка была очень грустной. Она пожаловалась мне на пьяницу зайца, который каждый день безобразничает в лесу. «Разве нельзя издать закон, запрещающий зверям пьянство?» – спросил я. «Ах, мой дорогой, такой закон в лесу уже есть, – вздохнула лисичка. – Я только вчера напомнила о нем вдребезги пьяному зайцу». «И что же он сказал в ответ?». «Сказал, что он не заяц, а рыбка. И им, рыбкам, все равно, какие у лесных зверей законы».