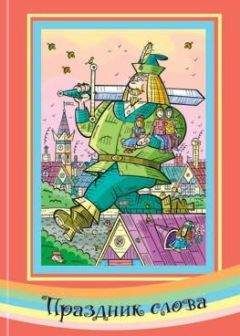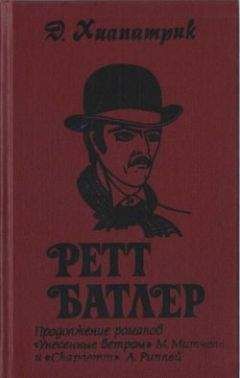Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Первой загорелась изба деда Антона – солдат поднес факел к ее соломенной крыше. Пламя взбежало вверх, из него полетели искры, отсветы упали на стожки сена и разграбленные ульи – немцы уже забрали у пчел зимний запас меда. На снегу, раскинув руки, лежал сам убитый дед Антон.
Вскоре вся деревня была охвачена огнем. Пламя сначала тихо, потом с треском пожирало дома, стога, сараи. Оно то делалось ниже, то поднималось, словно плясало вприсядку. Носились испуганные собаки, из дворов выбегала скотина, вылетали, теряя перья, с насестов куры. Вдалеке на фоне снега и краснеющего неба двигались танки, машины и нескладные фигуры уходящих карателей в длиннополых шинелях.
А на улице дрожали женщины и дети. У некоторых крестьянок на руках плакали завернутые в платки и тряпки груднички. Химы среди женщин не было, она сгорела вместе со своей хатой. И золотоголового Григория Петровича нигде не было видно, он убежал к партизанам…
Это горе случилось в конце зимы. А пока что стоял ноябрь. Пекарская и Полотов шли мимо бескрайних полей и перелесков по вековому пути, не раз проверенному чужими армиями. Этой земле не внове было впитывать кровь.
Навстречу медленно брели древние старик и старуха с перекинутыми через плечи котомками.
– Скажите, там Вязьма? – спросил их Полотов, показывая на дальние шпили храмов и белые маковки куполов.
Нищие остановились, опершись на свои посохи, и молча кивнули. У старухи были очень светлые, почти белые глаза и скорбное доброе лицо. Анне показалось, что это на нее смотрит сама поруганная Россия.
Издали вяземские домики под деревьями выглядели очень уютно. Можно было представить уездную атмосферу, которая царила в городе до революции. Вязьма оправдывала свое название изгибами реки, узорами храмов, вязями ближних болот.
А вблизи… На улице, задрав свою коротенькую пушку, кособочился давно брошенный легкий советский танк, и повсюду были указатели на немецком. Столб со стрелками направлений сообщал, что до Москвы вермахту остается всего двести шестьдесят шесть километров. Возле колонки было написано: «Вода только для немецких солдат. Русским расстрел на месте».
В разгромленной витрине кооперативного магазинчика валялся, как реквизит недоигранного спектакля, никому не нужный муляж «шахматной» советской колбасы. Он был сделан из воска и папье-маше. Темные квадратики на срезе изображали говядину, белые – свиной шпик.
Напротив длинного двухэтажного здания железнодорожной станции работали ломами пленные. Покачиваясь от слабости, они перешивали широкую русскую колею на европейский размер, чтобы она стала годной для локомотивов из Германии.
Сюда только что прибыл очередной состав с военнопленными. Красноармейцы стояли в вагонетках, плотно притиснутые друг к другу. Масса плеч и голов слабо шевелилась над металлическими бортами. Некоторые головы уже бессильно упали вниз или были запрокинуты с безжизненно раскрытыми ртами. Слышался надрывный кашель.
Пленникам приказали выбираться на перрон. У большинства не было теплой одежды. У некоторых не было обуви, остались одни портянки. И ни у кого не было сил. Колонна двинулась в сторону города. Это был марш живых мертвецов, тень той армии, которую Анна видела месяц назад. Упавших немцы добивали, остальных торопили ударами прикладов.
Их гнали к лагерю, окруженному вышками и обнесенному двумя рядами проволоки высотой в два человеческих роста. Его периметр патрулировали солдаты со сторожевыми собаками. Возле проволоки лежала на земле мертвая женщина в беретике, ее неестественно вывернутая рука сжимала небольшой узелок. Наверное, горожанка пыталась бросить еду двум молодым красноармейцам, которые, тоже застреленные, раскинулись по другую сторону ограды.
В воздухе медленно кружили редкие снежинки. Они словно стремились обратно наверх, не желая падать на эту страшную землю.
Единственное лагерное здание зияло пустыми проемами окон и дверей и не имело крыши. Возле него была сложена груда припорошенных снегом тощих тел. Некоторые еще слабо шевелились, а один человек медленно, сантиметр за сантиметром, полз прочь. Он упрямо хотел жить.
Русские мужчины, мальчики… Отправляясь защищать свои деревни и города, думали ли они, что их ждет ад на родной земле.
Пекарская и Полотов молча шли по городу. На фонарном столбе были прикреплены сразу два приказа коменданта. О том, что каждый, укрывший у себя советского солдата или командира или давший им пищу, будет повешен. А того, кто появится после четырех часов тридцати минут дневного времени, ждет расстрел на месте. Но даже в полдень местных жителей было мало, они выглядели затравленно.
Полицай и немец вели куда-то полураздетую бледную девушку. А неподалеку, стоя над дохлой собакой, гоготали солдаты. Им было холодно: они притоптывали на месте, ударяли себя по бокам. На одном были совсем не военные ватные штаны.
– Что интересного в этой собаке? – спросил Полотов у Анны.
– Они говорят, что ее надо дать на обед русским, – не сразу ответила она.
Полотов прислонился к стене.
– Все. Больше не могу…
Пекарская взяла его за плечи.
– Ниша, нам надо идти.
Только сейчас Анна заметила, что они стоят прямо под табличкой: «В этом доме живут немцы. Кто нарушит их собственность или покой, будет расстрелян. Комендант».
– Ниша, прошу тебя, отойдем…
Но ими уже заинтересовались.
– Ком, ком, – простуженным голосом позвал солдат в ватных штанах, с нехорошей улыбкой щелкая пальцами. Такими жестами в старое время подзывали официантов.
У немца были сопливый нос и безбровое бабье лицо. Ему приглянулись платок Анны и варежки Полотова. Утеплившись, он махнул рукой, позволяя русским идти дальше.
Перед гортеатром, в котором разместилась казарма, белела обезглавленная статуя Ленина и стоял развороченный киоск с вмерзшими в грязь советскими газетами. На газетном стенде висели отпечатанные под копирку листки комендантского воззвания. На этот раз вездесущий комендант требовал зарегистрироваться в управе и рассказывал, как большевики «высасывали население», превращая его в рабов, и как теперь все будет хорошо, потому что пришли освободители.
В здании управы жалась к стене робкая очередь. Плакат над головами людей призывал ехать в Германию: «Своей работой ты поможешь уничтожить большевизм». И нарисованная молодая женщина, таких пышущих здоровьем и оптимизмом было не найти во всей округе, белозубо смеялась на фоне поезда: «Еду завтра! Кто со мной?»
– Анна Георгиевна, Анна Георгиевна! – пропищал девичий голосок.
Анна не сразу узнала Капитолину и Ивана, уж очень измученными выглядели Семилетовы. А они с жалостью посмотрели на Полотова и Пекарскую.
– Ну вот, труппа собрана, – грустно пошутил Полотов.
К чиновнику биржи труда актеры подошли вместе.
– Ваша профессия? – спросил тот, проверив паспорта. Он был из прибалтийских немцев.
Анна ответила за всех, что они артисты и могли бы выступать для населения.
– Покажите, что умеете, – приказал немец.
Пекарская исполнила куплет французской песенки, которую раньше пел Иварсон.
Чиновник задумчиво покрутил свой остро отточенный карандаш.
– Но что вы можете как русские актеры?
Все четверо, встав рядом, грянули «Из-за острова на стрежень».
Немец поднял руку, останавливая песню. Он впился глазами в Полотова.
– Вы потеряли паспорт. А какая ваша национальность?
Полотов не ответил. В его воробьином взъерошенном облике вдруг проступило надменное упрямство.
– Он донской казак, – вмешалась Анна. – Разве не видно по лицу?
Немец перевел взгляд на Пекарскую, его глаза говорили: ничего, скоро вся спесь сойдет с тебя, маленькая актриска. Не с таких сходила.
– Вы готовы поручиться за свои слова? За неправду мы наказываем.
Анна удивленно подняла на него бровь и рассмеялась.
– Конечно!
– Почему вы взяли на себя такую ответственность?
– Да потому что он мой муж. Все знают!
Это было одно из самых убедительных выступлений в ее жизни.