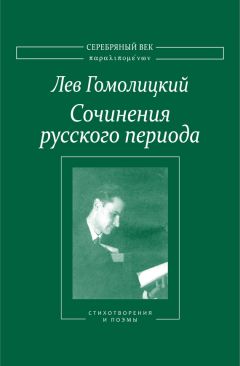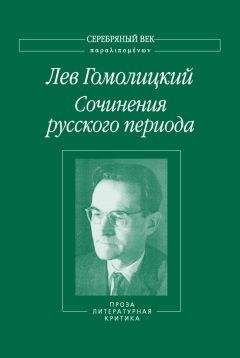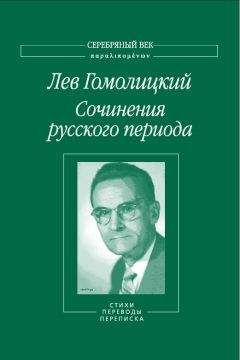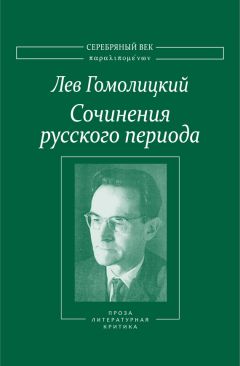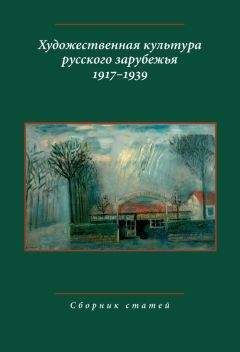Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1
176
Вот эта жизнь и нищая и злая,
которой мудрых крыльев не дано.
Одна природа только, утешая,
порой стучится веткою в окно.
Да вечером из окон иностранца
там, где антенна в воздухе висит,
порой обрывок песни или танца
из сказочного мира долетит.
177
Шумят в лесу маховики дубов.
Ревет пропеллер ветра над трубою;
несется ветер мимо вдоль домов,
хлеща по окнам пыльною полою.
Дом, сотрясаясь, пляшет и гудит.
В саду скрежещут ветки и заборы.
И кто-то ставни извне теребит
и потрясает, пробует запоры.
Трепещет время в маленьких часах.
Трепещет сердце у меня в руках.
По комнате широкими кругами
порхает тьма, и беспричинный страх,
как прах, встает под черными крылами.
И со стола под взмахом темноты
шурша слетают белые листы,
покрытые моими письменами.
Меня в немых объятьях держит сон
и душит страшной и правдивой грезой,
и сквозь нее я слышу, как угрозой
ночь вырывает мой тревожный стон.
Под душною и липкой простынею
я слышу – камни города толпой
со всех сторон идут, растут стеною
и падают на дом дрожащий мой.
И вижу я, придавленный камнями, –
из мира вольного над черными полями
летит вдоль звезд на крыльях почтальон,
земное счастье разнося по свету;
он машет палкой мне, что писем нету,
и пролетает, прерывая сон.
178
Недоуменье первое любви –
все эти жала, лепет бредовой.
Ты все узнал, велевший мне: живи,
все победил, творец крылатый мой.
Но я – тяжел от плоти и бескрыл,
я одинок в тоске своей и слеп.
Я ничего, познав, не победил,
и мне постыл насущный горький хлеб.
Над ропщущей ворчливою плитой,
во тьме растущих из души ночей –
напрасно Ты склонялся надо мной,
для всех живых единый и ничей.
Ты знал, мечта о смерти и покой
уже, как тени, надо мной растут –
касаясь тела на груди рукой,
Ты ощущал их вечный холод тут.
Ты молча знал, немая тишина
и неизменный мерный шаг минут
меня с ночного тлеющего дна
в иную ночь – беззвездную зовут.
Ты грустно знал, растаял в пыль и дым
ком первобытный глины и любви.
И надо мной тяжелым и слепым
Ты повторить уже не смел: живи.
179
Ворча, раздавит лапою тяжелой
чудовище автобуса тупое –
на камнях, сморщенных его ленивым брюхом...
Так кончится что было душной школой...
по классам жизни заточенным слухом,
не помнящим мучительно иное.
Лишь каменные тихие святые
и голуби, слетающие к ним,
да вот еще любви комочек снежный
напрасно длят часы мои пустые.
Но будет прав мой тесный, неизбежный
последний час – гудок, бензинный дым,
сухой асфальт и... кто-то нежный-нежный.
180
Как о солнечном огненном рае,
вспоминаю об этой стране,
где я-тело прожил, умирая,
где я-дух оперился в огне.
О холмистом, о облачном крае,
о речном утоляющем дне.
Сны о крыльях, о трубах, о зовах,
явь о грязном, голодном житье.
В утешеньях, для мира не новых,
там я спал и бродил в пустоте.
На осеннем костре оживая,
воплощаясь в прозрачной весне,
из библейского древнего рая
Ева там приходила ко мне,
в том холмистом, в том облачном крае,
в той уже отошедшей стране.
Я из камня, из крови и пота
неумело свой дом возвожу,
и бескрыла земная работа,
за которой я дни провожу.
Смотрит молча насмешливый кто-то,
как я землю на тачки гружу.
Я топчу по дороге посевы,
вагонетки по рельсам веду.
Вдохновенья земные и гневы
приучаю бичами к труду.
Но ни солнца, ни крыльев, ни Евы
я на камни свои не сведу.
Только ночью, себя вспоминая,
в наступившей ночной тишине,
как о солнечном огненном рае,
я мечтаю о прошлой стране –
о холмистом, о облачном крае,
незабвенно приснившемся мне.
181
В лесу крестов в конвульсии смертельной
с жестокостью напрасной и бесцельной
распят среди тропинок и дорог
то каменный, то деревянный Бог.
Зачем не духом жизни озаренным,
но судорогой смертною сведенным
изобразил пророка ученик,
открыл страданьем искаженный лик
прохожим праздным, парочкам влюбленным, –
так полюбил окостеневший труп
с упреком мертвых почерневших губ.
Как это чуждо нашей жизни нищей
и тишине, уснувшей на кладбище,
где мирные соседи под землей,
сложив спокойно восковые руки,
лежат, забыв последний вздох разлуки,
найдя давно обещанный покой.
Для любопытной улицы бессонной
за занавеской ситцевой оконной
в кулисах белых или пестрых стен
давался ряд предательств и измен,
ряд повторений той же глупой драмы,
чтоб наконец, смеясь притворству дамы,
возлег на стол при полных орденах
мертвец умытый; чтоб качался прах
над жадною до зрелища толпою
и принят был торжественно землею.
Сядь над могилой и, склонясь к земле,
ему напомни шепотом о зле,
о радостях, разлуке или встрече –
он не поймет твоей ненужной речи:
не вздрогнет холм могильный, лишь едва
трепещущая в воздухе трава,
которой мир земной так щедро вышит,
даст знать тебе, что он из гроба слышит,
но для него, как воздуха порыв,
прошли земных обманов вереницы.
Жизнь пролетает точно тень от птицы.
Спеши исполнить все, пока ты жив.
182
Еще раздам я людям много дней
и растворюсь в земле среди корней,
в земных ручьях, в ветрах морей воздушных
и на людей, по-прежнему бездушных
и усыпленных в праздном и пустом,
прольюсь весенним золотом – дождем.
Надую парус облака крутого
и вдоль лица безумного земного
я буду плыть, неузнанный землей,
как и при жизни в плоти дорогой.
Листвой на солнце влажной и прозрачной
о человечьей жизни неудачной
я расскажу, ветвями шевеля,–
но не услышат спящие поля,
как и при жизни в плоти не слыхали
моих рассказов, тяжких от печали.
183
Жемчужиной скатившаяся ночь
на мягкие росистые долины,
ты тишиной о счастье не пророчь –
жизнь прочтена уже до половины.
Я заложу твоею тишиной
ее страницы – бархатной закладкой.
Пусть тишиной меня исполнит сладкой
небытия восторженный покой.
184
Меня обжег в земной печи Господь
и эту форму глиняную – плоть
наполнил кровью терпкой и дыханьем,
и стал я телом, стал я трепетаньем,
и стал я тайной.
Бог, целуя в рот
людей случайных, строго подает
сосуд им этот трепетного тела,
но нет ни праздным, ни спешащим дела
до тайн Господних.
И среди дорог
уж что-то понял замолчавший Бог.
Миг – и в руке божественной дрожащий
сосуд мой с кровью теплой и кричащей
вдруг выскользнет на камни мостовой
и разлетится вдребезги...
И мой
огонь и трепет с неоткрытой тайной –
все станет глиной вновь первоначальной.
185