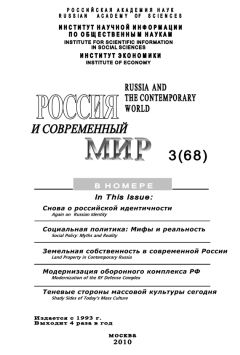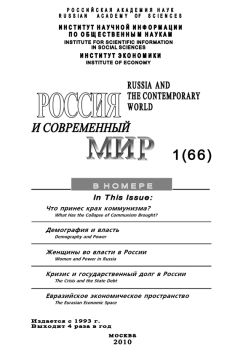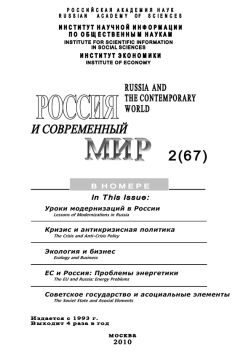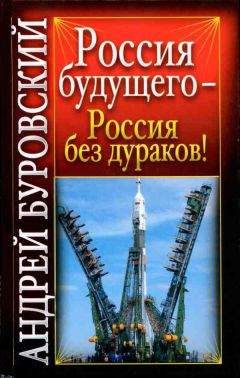Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том I
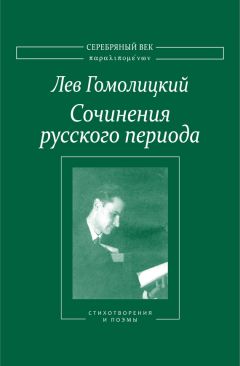
Обзор книги Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том I
Лев Гомолицкий
Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том I
Составители и издательство выражают глубокую благодарность Кафедре славистики, Отделению литератур, культур и языков и деканату Факультета гуманитарных и точных наук Стэнфордского университета за щедрую поддержку этого издания
Редакционная коллегия серии:
Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
И. Е. Будницкий (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, председатель),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
Т. М. Горяева (Россия),
A. Гришин (США),
B. В. Емельянов (Россия),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
А. Б. Устинов (США),
Л. С. Флейшман (США)
Издательство искреннне благодарит Юрия Сергеевича Коржа и Алексея Геннадьевича Малофеева за поддержку настоящего издания
© Tadeusz Januszewski (Warszawa), тексты Л. Гомолицкого, 2011
© Л. Белошевская, П. Мицнер, Л. Флейшман, составление, подготовка текста, предисловие, примечания, 2011
© М. и Л. Орлушины, оформление, 2011
© Издательство «Водолей», оформление, 2011
Лев Гомолицкий и русская литературная жизнь в межвоенной Польше
Материалы, собранные в этом издании, приоткрывают новую и чрезвычайно богатую сторону в истории литературы русского Зарубежья. Они позволяют полнее представить русскую литературную жизнь межвоенной Польши в ее отношениях с главными центрами эмигрантской литературы. Они вводят в историко-литературный обиход поэтические тексты несомненного художественного своеобразия и интереса. Принадлежат они русскому поэту Льву Гомолицкому.
Такой поэт известен и не известен в истории русского Зарубежья. Привлекшие внимание в последнее время, его стихотворные книжки 1920–1930-х гг. кажутся написанными разными людьми – так сильно они разнятся и так трудно уловить и объяснить логику изменений поэтической манеры автора. Вышедшие ничтожными тиражами, эти издания составляют лишь незначительную часть сохранившегося большого рукописного наследия Гомолицкого, относящегося к ранним этапам его творческого пути. Место Льва Гомолицкого в русской литературе и печати в межвоенной Польше, вообще изученной намного меньше, чем культура русского Зарубежья в других странах и столицах (Берлин, Париж, Прага, Рига), не определено, отчасти потому, что творческая биография его являет собой цепь «метаморфоз», причем резкие сломы в ней были вызваны как внешними катаклизмами, выпавшими на долю его поколения, так и сугубо внутренними, чисто художественными причинами. События политической жизни поставили его на перекрестке культур, эпох и литературных систем. Литературная биография его распадается на два основных периода – русский (до конца Второй мировой войны) и польский (послевоенный), и их различие выражено двумя разными именами – Лев Гомолицкий и Leon Gomolicki. Внимательное изучение показывает, однако, что работа в русской и работа в польской литературах не были у него отгорожены друг от друга непроходимой стеной, а наоборот, являли пример поразительного взаимопроникновения двух отдельных, самостоятельных традиций.
I. В России и после России
Национально-этническое самоопределение Гомолицкого в течение его жизни претерпело резкие сдвиги. Родился он 27 августа (9 сентября ст. ст.) 1903 года в Санкт-Петербурге в семье Николая Осиповича Гомолицкого. Отцу было тогда 36 лет. Николай Осипович вырос в Варшаве, закончил там реальную школу Бабиньского и, по рассказу поэта, обнаруживал склонности к литераторству[1]. В отце маленький Лев видел человека молчаливого, «благородного, не ожидающего от судьбы никакой компенсации»[2]. К моменту рождения единственного сына Николай Осипович был жандармским офицером, в чине капитана служившим в Главном тюремном управлении Министерства внутренних дел, в шестом делопроизводстве – отделе, ведавшем этапированием арестантов[3]. Устройство на службу состоялось, видимо, по рекомендации старшего брата Николая Осиповича – Льва Осиповича, много лет служившего в том же тюремном ведомстве, но в другом – 5-м (счетном) – делопроизводстве и достигшего тогда чина статского советника. В обязанности отдела, к которому принадлежал отец будущего поэта, входило «заведывание местами заключения гражданского ведомства, арестантскою пересыльною частью и воспитательно-исправительными заведениями. Расходование сумм, назначенных на содержание мест заключения. Распоряжение по тюремной части»[4]. В 1909 канцелярия выпустила составленную Николаем Осиповичем книгу[5]. К 1910 г. он продвинулся по службе, став младшим подполковником и числясь штабс-офицером при главном инспекторе по пересылке арестантов (к тому времени Управление перешло из Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции); брат его получил чин действительного статского советника[6]. Проживала семья – жена Гомолицкого Аделаида Степановна и малолетний сын – рядом с местом службы, в квартире по Греческому проспекту, дом 9. К началу войны (когда Лев Осипович, по-видимому, умер) Николай Осипович, оставаясь на прежней должности и получив очередное повышение – чин подполковника, был в 1914 г. введен в Комиссию о новых железных дорогах[7]. Разразившаяся война нарушила нормальный ход его чиновничьей карьеры: Николай Гомолицкий, приближавшийся к пятидесятилетнему возрасту, вызвался (по рассказу сына) в действующую армию и был назначен комендантом армейского железнодорожного узла в Лановцах на Волыни.
Дворянский род Гомолиньских (Гомолицких) был старинного польского происхождения[8]. К одной из его ветвей (Гомолиньские) принадлежали Станислав, католический епископ Каменецкий (1588–1592), Холмский (до 1600) и Луцкий (до 1604)[9], пользовавшийся влиянием при королевском дворе в Кракове[10] и принимавший участие, в качестве одного из представителей Ватикана, в Брестской унии[11], и Ян Павел (1655–1711), в 1698–1711 епископ киевский[12]. Ветвь Гомолицких, восходившая к внуку основателя рода Леонтию, принадлежала к аристократической верхушке украинского казачества[13]. В XIX в. предки поэта совершенно обрусели и служили в административно-бюрократической системе Российской Империи. Дед поэта Осип (Юзеф) шел по жандармской линии, был назначен начальником Цехановского (по-польски – Цеханувского) уезда[14], дослужился до генеральского чина, жил после выхода в отставку в Варшаве и был похоронен там на православном кладбище в квартале Воля[15].
Из тех же краев Царства Польского – из Плоцка – была семья матери, Зегжда. Но олицетворяли они собой диаметрально противоположный фланг польской общественности, и познакомилась мать поэта с будущим своим мужем в Пензе, куда ее деда сослали за участие в польском восстании 1863 года. Семья ее была большая – она была 8-м ребенком. В книге Dzikie muzy (Дикие музы), написанной в 1967 и вышедшей в Польской Народной Республике в 1968 году, Леон Гомолицкий представил детали, освещающие героические эпизоды жизни семьи Зегжда[16], связанные со своими дедом Станиславом и двоюродным прадедом – дядей Станислава, адвокатом Войцехом Зегжда, который руководил конспиративной организацией борцов за польскую независимость в Плоцке и возглавил в ночь с 22 на 23 января 1863 года закончившуюся поражением атаку на караульное помещение русской армии. Перед лицом неминуемого ареста он покончил с собой. Самого же Станислава, участника молодежной подпольной организации, сослали вглубь России. Некоторые из этих деталей, однако, вступают в противоречие с содержанием первой главы писавшегося в начале Второй мировой войны и оставшегося неопубликованным романа в стихах «Совидец», где отец Адели изображен «полу»-ренегатом, открестившимся от католичества и Польши (и за это проклятым своей матерью), но втайне сохранившим к ним привязанность и потому страдающим от вступления дочери в брак с «русским».
Как бы то ни было, в плане политических пристрастий между отцовской и материнской сторонами семьи будущего поэта изначально существовали глубокие различия. Они воплощали совершенно противоположные полюса «польского» сектора тогдашней русской жизни, но проявлялись и в области психологических отношений. О трещине в отношениях между родителями говорит одно из наиболее исповедальных произведений Гомолицкого «русского» периода – «Совидец». В более раннем автобиографическом высказывании Гомолицкий, говоря о том, как в его случае происходит «примирение моего духа с моим телом», «слиянность всего духовного и материального», добавлял сведения, которые еще больше осложняли картину: «Когда я думаю об этой истинной своей жизни, ощущаю в себе кровь предков моей матери – монголов. Нисходя в меня по лестнице поколений, они встретились с предками отца – первыми униатами. Боголюбцы с богоборцами. Мой родоначальник – участник Флорентийского собора»[17]. Не ясно, в какой мере различия затрагивали и сферу церковно-конфессиональную, но то обстоятельство, что имя поэту было выбрано в честь недавно скончавшгося папы Римского Льва XIII (1810 – 20 июля 1903), находившегося на ватиканском престоле четверть века[18], свидетельствует, что для родных матери оставалась важной связь с католической церковью.