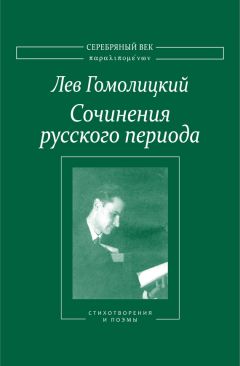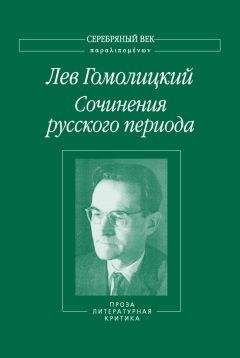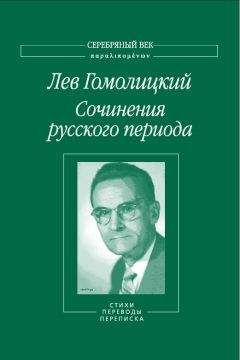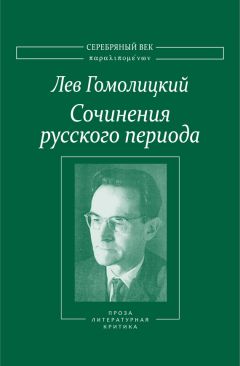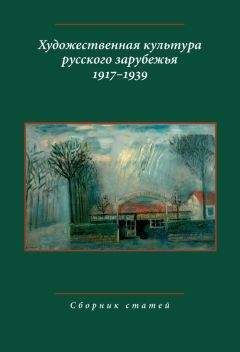Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1
166
Жизнь терпкая, насыщенная кровью,
зовет Меня с мерцающих небес,
зовет Меня и гневом и любовью
скатиться в бездну черную за лес;
принять ее напрасные волненья,
испить ее томительную страсть;
своей крылатой огненною тенью
к ее позору гордому припасть.
Чтоб в этой черной и зловонной пашне
Мне умереть простым льняным зерном,
но расцвести своей тоской всегдашней:
кусочком неба – синеньким цветком.
Чтоб искупить божественные клятвы,
родясь короткой радостью земной,
и в день кровавой и томящей жатвы
окончить подвиг незаметный свой.
167
Вечно может быть поздно и вечно мо-
жет быть рано все снова и снова касаться
губами поющей тростинки и черпать горстя-
ми со дна утомленного духа все новые пес-
ни.
Но с каждой весною чудесней скопля-
ются тени, загадочней падают звуки на дне
потемневших озер и всплывает узор на по-
верхности водной – узор отдаленных соз-
вездий.
И тише становятся песни – в пути, у
предела земного; и тело готово расти, как
прозрачная тень, в голубые пустыни ночного
сиянья и медленно таять в Твоей молчали-
вой улыбке.
168
С тех пор, как выйти духу на порог
из душной плоти стало невозможно,
меня зовет немолчным зовом Бог,
и все иное кажется ничтожно.
Мне сладко тело с духом сочетать,
мне сладко жить, мне сладко засыпать,
мне сладко петь, молчать стократ мне сладко
и слушать голос в сердце говорящий.
Меня влекут земной огонь и дух,
и мирный труд вдали от зла и славы.
Я так хочу, где сладко пахнут травы,
свой приклонить к земле и жизни слух.
В полях безгласных, позабыв о славе,
построить дом и в солнце выходить
к семье, сидящей за столом в оправе
веселых красок, чтобы, видя, быть;
чтобы светились отраженно лица,
и человечий терпкий сок томил,
и даль снаружи, точно голубица,
благословляла дуновеньем крыл.
169
Дрожит и стонет, напрягаясь, дом
под старой ношей тьмы и тяготенья.
Я изменить не смею положенья –
жена уснула на плече моем.
Тот мир, что людям кажется шатром,
в ничто распылен рычагом творенья
и мчится мимо огненным дождем;
и с ним, боясь покоя замедленья,
спешат стальным точильщиком жучком
часы-браслет на столике ночном.
Моей любовью первою был Бог,
второй, земной – жена, еврейка Ева,
и жизнь моя была проста без гнева,
и будет духом мой последний вздох.
То потухая над землею слева,
то возникая справа над землей,
сменялось солнце мраком и луной.
И точно песнь теперь передо мной
прошедшее: от детского запева
до этой ночи, обнаженной тьмой...
170
Теперь в меня Ты смотришь темнотою,
и это так же велико, как Свет.
Знакомо весь я воспален Тобою,
и между нами снова тайны нет.
Ты – Тьма, но все само в Тебе лучится,
как иногда в цветном томящем сне.
Я не могу от ярких форм забыться,
и пустоту Ты позволяешь мне.
Привычками народов, и деньгами,
и преступленьями, и смехом, и тоской
Ты пьян – Ты бредишь пьяными словами.
Отяжелен, пресыщен я Тобой.
171
Я был в саду и слушал я паденье
отяжелевших на ветвях плодов
и в шуме их услышал приближенье
внутри ли – сердца, извне ли – шагов.
Плоть непрозрачная любимая земная
надвинулась на зеркало зари.
Высоких туч окрашенная стая
перелетела молча пустыри.
И встала тьма от юга до зенита.
Тьма повалила бережно меня.
Мне было видно, как была покрыта
она загаром, черным от огня.
172
Как мало надо нам с тобою, Ева!
Без гнева жить и трепетать потом,
когда наш дом от крыши до порога
наполнит бога маленького крик –
его язык, еще невнятный людям,
и позабудем для него мы свой –
земной язык, отчаяньем сожженный
и искушенный внутренним огнем.
Дом – этих стен молчащий мудро камень
и пламень, в нем трепещущий крылом;
дом, полный светом, тьмою и дыханьем,
каким желаньем, мукой и тоской –
такой земной, доступный грубым людям,
в котором будем мужем и женой,–
передо мной встает и манит дом.
Минут земных задумчивое тленье,
живое пенье маленькой плиты
и ты –
твое тепло и каждая минута
с тобой... Вот вечер, и свеча задута,
и мы покрыты обнаженной тьмой...
173
Из камня люди выстроили дом,
на камне люди высекли законы.
Недаром мир с тревогой слышит стоны
живого праха, тлеющего в нем.
Как счастлив был мой предок отдаленный,
что с Евою, женой перворожденной,
гулял по райским солнечным садам.
Я падаю бесплодный, обреченный –
последний в мире каменном Адам.
Упрямый камень больше не послушен
моим рукам, и Ева – и жена
со мной стеной божниц разлучена,
и в ней огонь живительный потушен,
и, как и я, она обречена.
174
Упрямость лет и дерзость... и над нами
наш дом раскинет безмятежный кров.
Мы будем жить в течении часов,
принадлежащих только нам. Ночами
ты будешь слышать, как я рядом сплю;
увидишь днем, как бреюсь, как очками
взметаю блики я над чертежами...
как груз житейский на плечах коплю.
Узнаешь все во мне – в душе и в теле.
В окно заглянут серые недели,
слетят года сугробами на дом.
И новый дух в нас повельнет крылом.
У боязливых, сгорбленных в работе
он будет жизни требовать и плоти.
Что перевесит на земных весах –
наш страх иль голос древний и томящий,
который гонит исступленный прах
от жизни к жизни плеткою свистящей...
Я говорил уже тебе: не в том
живое счастье, чтобы ставить дом
и в нем с тревогой теплить жизнь и пламя,
чтобы оно не занялось на нем
ревущим зверем – взбешенным огнем,
по ветру гордо развевая знамя.
Как в биллиарде легкие шары,
дрожа от бега и звуча от стука,
мы в мир летим в зеленый час игры –
все здесь случайно: встреча и разлука.
Но есть иная близость, это та,
которой мы названия не знаем –
ей не страшна пространства пустота,
и голос смерти ею презираем.
175
Обед сегодня водянист и скуп.
Стоит тарелка на окне – в ней суп,
на нем, дрожа, застыло отраженье:
забор, деревья, тучи без движенья,
закрытое на ржавый крюк окно
и на стекле знакомое пятно.
Мне тошно от тоски тупой – немножко.
Лежит в тарелке неподвижно ложка,
и тупо я гляжу поверх ухи,
как бродят в мыслях скучные стихи,
как под окном цветет весна на груше
и чешет пес, глаза зажмурив, уши...
Как много было мыслей вдохновенных,
в чужом ярме тоскующих и пленных.
И я теперь свободен, и они
могли бы быть мои... Проходят дни –
и я ищу былые вдохновенья,
но нету их – на месте их волненья,
заботы, страх насущный и тоска.
И тает жизнь, как в полдень облака.
176