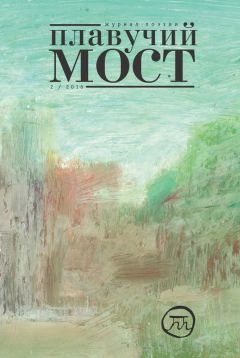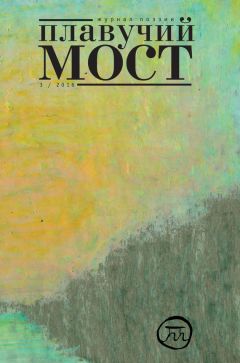Коллектив авторов - Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2016
«Холодное небо просвеченное покоем…»
Холодное небо просвеченное покоем
сереет среди облаков,
а дух земли обеспокоен, что никоим
образом он не таков,
как это небо. Еще он жарок,
еще в прохладную зелень одет,
как будто девушка-перестарок,
втиснутая в модный вельвет.
Гляди, как под ливнем налип на столб
вымпел на катере местной линии,
а он добросовестно идет пустой,
но кто поедет в такой-то ливень?
Несоответствие – душа искусств,
моих неприветливых, требовательных подруг
раскрывающих розу горячих уст
совсем не сразу, совсем не вдруг.
«Тот, умевший и умерший…»
Тот, умевший и умерший,
и лишенные лица
люди, служащие в смерше
в чине доброго отца,
тот, кто зрел ночного Ульма
несказанные огни,
и конец любви в раздумьи
уплывающей луны –
«Все полно богов», однако,
остается атеист
вроде клички, вроде знака,
что какой-то воздух чист.
«Пришли взыскавшие карьеры офицеры…»
Пришли взыскавшие карьеры офицеры
и сели в форменной одежде
вокруг стола. Вверху порхали денежки
и шелестели действуя на нервы.
Пришли потрепанные юностью подруги
ко всем страдающие аллергией,
а их натруженные руки
ах как о многом говорили.
Пришли ах как обкаканные дети
ради которых ходят в магазины
и тащат переполненные сетки
и влезли нашей радости на спины.
Так все пришли и так вот все сидели
как души с высоты сидели и смотрели.
Наброшена на всех была попона
и все просили у меня пардона.
«Умерла бесчисленная жизнь…»
Умерла бесчисленная жизнь
на зеленых ручках серой лентой.
Жильное безумие зажгись
смутным сном, сыновним аргументом.
Стол печали застели и пей,
пей и пой, ах! пой себя не помня
произросший яростно репей
на заброшенной сто лет каменоломне.
То мне чудится, я темнота и ночь,
чей-то сын, а может чья-то дочь,
то мне снится, будто я один.
Солнце. День. И я ничей не сын.
«Зачем же властвовать и задавать вопросы?..»
Зачем же властвовать и задавать вопросы?
Поют скворцы, и пьют вино
у магазина холодным майским утром.
Нам дано
быть мудрыми,
но это мы отбросим.
Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью
свой голос насыщать?
Пятиэтажная стена на зелень вдовью
глядит как на тщету душа
и ах! как хороша
воздушная листва, наполненная свежей кровью.
Чуть мы устали, нас уже забыли.
Сквозь ясное лицо, повернутое вверх,
струится свет,
которого и нет.
Когда хозяйку посещает смерть,
квартира богатеет пылью.
Зачем же властвовать?
Воздушная истома
холодною весной ложится на порог,
взлетела ласточка
и серый свой творог
прислюнила под самой крышей дома.
«Режим любви…»
Режим любви:
названия тоски и одиночества
перемежаются то нежностью, то страстью,
в подставленные дни твои
вливаются разнообразные
растворы ночи.
Глаза раскрыты. Даль живет в тумане
своею жизнью, непонятной сердцу –
там что-то вертится
и убеждается в обмане.
Но мы не так. Мы всем пока довольны.
У нас еще пока
на голоса расписана тоска
и одиночество еще не больно.
Все падает и все взмывает вверх,
как сыплет лепестки и поднимает души
тот ветер, что нам губы сушит,
срывает крыши, покрывает грех.
«Не в темном колодце студенческого двора…»
Не в темном колодце студенческого двора
почти как игра и почти до утра,
а в сердце и в тишине и
там, где глаза твои,
не в небе, не в рыбе, не в кошельке,
даже не в задрожавшей руке,
а на плече мира, на
сиреневом как луна
эти цветы, и этих цветов таинственны спесь и род.
Только то, что они есть, и можно о них сказать.
Они там, где твой рот,
и там, где твои глаза.
Нельзя улететь туда, где их нет, с плеча мира сползти
на темный студенческий двор
и воздуха черный раствор
с собой навсегда унести.
«Не видеть, не знать…»
Не видеть, не знать,
локтем не задеть,
а только опять
сидеть и молчать,
молчать и сидеть.
Неузнанным сном
приснится под утро,
плывущим котом
в реке Брахмапутра.
Скормившую груди
супругу-сестру
на розовом блюде
губами сотру.
Порвите с Парвати,
начните плясать,
чтоб эти кровати
не видеть, не знать,
не видеть, не знать,
локтем не задеть,
а только опять
сидеть и молчать,
молчать и сидеть.
«Что поет и грохочет вверху на снежных вершинах?..»
Что поет и грохочет вверху на снежных вершинах?
Атмосферных явлений жизнь продолжается пылко.
Торжество недолгой погоды свершилося.
Хлынули воды на поселок в песке в изобильи.
Из клетушек глядим на дождем убитую пыль.
Над пожарным багром
краснеют столбцы огнетушителей.
Каждый все-таки как-то был
мудрецом,
все потом превращаются в жителей.
«Из обломков сегодня построй себе завтра. Вприпрыжку…»
Из обломков сегодня построй себе завтра. Вприпрыжку
подноси то траву, то перо, то булыжник.
То перо, ту траву, тот камень составь
в гармоничное личное, в чем-то излишнее
время камня, перьев и трав.
Это будет – решай. То не нужно – отбрось.
И глядишь докрутился-игрался до седых до волос.
Из руки выползает свое отработавший флаг,
выпадает на склизкий земельный навоз
и рука человека сжимает кулак.
«Она приехала за мной…»
Она приехала за мной
туда, где не было меня.
Вперед, любимая, вперед!
Над ней усталый и больной
сморкающийся небосвод
все плакал на исходе дня:
– вперед, любимая, вперед!
Ребенок попросил, чтоб лук
я смастерить ему помог.
Я выбрал самый длинный сук,
согнул его посредством рук
и чуточку посредством ног,
и охвативши бечевой
его рога,
я над зеленою травой
незримого искал врага.
Какая жалость и печаль –
меня затягивает даль,
меня заглатывает бред,
она меня не достает.
Вперед, любимая, вперед!
Она плывет за мной вослед.
Вперед, любимая, вперед!
«Не смыкай глаза, красотка…»
Не смыкай глаза, красотка,
жизнь еще не умирает,
продолжается полет.
Самолет воздушной лодкой
в море Черное ныряет, вырывается вперед.
Сядем мы, голубка, в кресла
и совместно телевизор
благодарно поглядим.
Умер только дух арфиста,
а душа его воскресла –
Персефона, Эвридика – в глубине забытых зим.
Толи женщина уходит в мужа ночь,
толи женщина от мужа в ночь уходит,
кто нисходит, кто восходит – не помочь
тем, кто прячется, и тем, кто водит,
тем, кто кается,
и тем, кто лжет,
тем, кто мается,
и тем, кто жмет.
То ли женщина нам дух переступает
или заступает нам пути,
то ли дух на женской тает
широко раздвоенной груди.
Толи женщина нашла, смолола колос,
а потом его снесла в Аид,
то ли это – не смыкай глаза, красотка, – голос,
только голос над землей моей звенит.
«А человек – попытка жить…»
А человек – попытка жить,
уйти и дом свой сокрушить,
из мрака славы и порядка
шагнуть на утренний причал
и то, что горько, то, что сладко,
и радость, в общем, и печаль
собрать в единую щепотку
и выстрелить собою вбок,
повизгивая от щекотки
своих надежд, своих тревог.
Между загадываньем вдаль
и просто знаньем наперед
живет один кровавый род,
который называют «трепет».
Он на начало из начал
прожорливый разинет рот,
набросится и жадно треплет
тебя, а ты из глубины
провозгласи свою свирепость,
свою невинность растяни,
как нарисованную крепость
на пяльцах рук, на пальцах ног
и выстрели собою вбок.
«Мы договорились…»
Мы договорились
между собой
то, что случилось,
ни Боже мой
не осуждать,
не толковать –
принять как есть.
Это наш крест.
Это наш ад.
И то, что произойдет
потом,
это не закат, не восход,
а еще один том
жизнеописания нас.
Смысла в нем нет –
ни через много лет,
ни сейчас.
«О, безумных виноградин…»
О, безумных виноградин
ярко желтая гора!
Виноград тобой украден
из соседнего двора,
и на черном на подносе
он разросшийся как взрыв
пристального взгляда просит,
просит пыли и жары
постоянного движенья
вверх по склону, вниз по склону.
Склока высветит мишени –
ты проснешься распаленный.
День с другими днями смешан,
ночь цепляется за ночь,
виноград в горах развешен,
жить уже совсем невмочь.
Пламя кражи время косит,
косит удрученно,
жизнь сползает на подносе
по пыльному склону.
«Чайка, взмывающая над землей…»