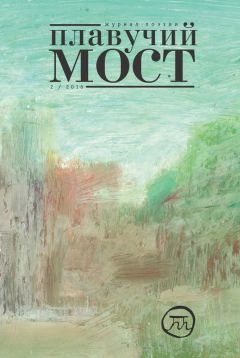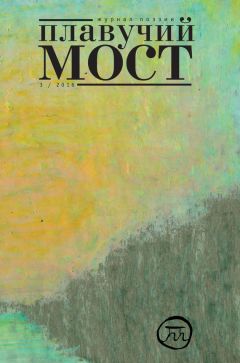Коллектив авторов - Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2016
Стул
Больно спине,
Когда человек,
Чья радость – это еда,
Садится плотно,
Вольготно –
Навсегда
Мне вес отдает, а сам
От телес избавлен,
Летит себе в небеса.
Я им раздавлен.
В потолке открылся сезам,
Беседа стремится за
Границу мира идей.
Цари они, боги:
Зачем же им ноги
Внизу, в темноте?
Ведь лица людей –
Небесные клапаны.
А он внезапно
Оглянувшись, тайком
Лицо утирает платком.
Как тучность тяжка
Как жизнь проскака,
Как ноет нога,
Как скрипит и
Навсегда к сиденью прибита.
Букет
Нет, не выброшу ради того тюльпана:
Свеж и белеет атласный локон –
Воротник голландского капитана
На темной куртке. Задник без окон.
Лепесток руки, вполоборота
голова,
Рот сжат, в нем мерцает вишня…
…Нет, пусть выбросит: только не я, а кто-то –
Как обо мне еще скажет Всевышний.
Царь
вот комод; верхний ящик застрял навеки
и открытка с прошлого дня рожденья
перед тем, как кинуть в моря и реки
всем как царь раздать
по прикосновенью
Лампа
Грех: подмигиванья, ужимки,
Святость: нимб на столе.
Смерть: повисла пружинка
В мутном стекле.
Виталий Леоненко
На память
Я родился в Сибири, вырос и почти всю жизнь живу в Южном Подмосковье, на Оке. По образованию историк. Занимаюсь переводами, в том числе поэтическими (они изданы под псевдонимами). Свои стихи стал писать, если не говорить о детских и отроческих опытах, после 45 лет.
От автора:В моём подходе к поэтической работе, в самом понимании того, что есть поэзия, сказалась, несомненно, четверть века, отданная служению в церкви. Под этим углом я смотрю, например, на поэзию Петрарки, прочитывая его как человека молитвы и литургии. Литургическое измерение в сознании Петрарки и создало сверхчеловеческий, заполняющий собою всё мироздание, образ его Лауры; у последователей, не имевших его опыта, «петраркизмы» обесценились до простых гипербол и штампов. Первое из напечатанных моих стихотворений так и называется – «Литургия Слова». (Пользуюсь случаем поблагодарить Сергея Стратановского и Ольгу Логош, по чьей инициативе оно было опубликовано в «Зинзивере» в 2010 году.) В отношении к тому, что в поэзии я люблю, и к тому, что делаю сам, наиболее важным критерием для меня всегда остаётся глубина опытного постижения, переживания реальности. Ведь молитва и литургия, если рассматривать их как акты внутренней жизни верующего, суть странствие, исследование неоткрытых глубин – в себе самом, а затем и во всём сущем. Поэзия в этом отношении близка к молитве и к литургии, но у поэтического странствия есть свои, отдельные аспекты. Если молитва (во всяком случае, в христианском понимании) стремится к некой высшей цельности, отсекая всё фрагментарное, поэзия, по большей части, обращена именно к фрагментарному, наполняя маленькие и эфемерные вещи бытием до размеров вселенной и вечности. Как говорила Симона Вейль, в каждом подлинном шедевре присутствует вся полнота времени и пространства. В поэзии я ищу, прежде всего иного, этой полноты, достигаемой любыми речевыми средствами, любой техникой, на любом тематическом материале, при одном условии – внутренней честности. Названный критерий для меня сближает, роднит столь несхожие вещи, как, например, стихи Мандельштама 1920-1930-х годов, стихи дорогого мне Сергея Стратановского (именно они дали импульс моим первым «взрослым» опытам) и многие образцы народной песни.
Хотя сегодняшний день человеческой цивилизации не уверяет в том, что её развитие в XXI веке будет мирным и поступательным, поэзия непременно сохранится и будет нужна. Подчеркну, что в поэзии, по самой её природе, заключено противоядие от тоталитарного мышления, вновь затопляющего планету. Осознавая эту перспективу и связанный с нею моральный долг, я и пишу то, что пишу.
Три часа на берегу
Запад – пенка топлёного молока.
Запад – кисельные берега.
Глину небесного потолка
берёзовая белит кисть.
Вязнет в сугробах медленный ход.
Рвётся по шву натянутый лёд.
Трясогузки ныряющий лёт.
Трясогузки звенящий свист.
Морщится гладь зелёной воды.
Розова плоть далёкой воды.
У полыньи затерялись следы
позавчерашних троп.
Через плетни перекличка псов.
Головы вётел – мысли без слов.
В голых ветвях – забытьё без снов,
В переплетеньях строк.
Стынешь, но глаз не отводишь, пока
простынь льняную расстелит Ока
и, засветив свечу в облаках,
распустит косы огня.
Трогаешь лоно её берегов,
и обжигает пальцы любовь.
Краснеешь лицом. И льётся ливмя
пламя в колодцах шагов.
Апрель 2013
Вечерние проводы Оки
В мглу растеклось белое,
синее почернело,
красное в сизой золе остыло вдали.
Тихо,
медленно
плывёт твоё охладевшее тело
на крепких плечаху земли.
Дали и города
словно свечи
неся к изголовью,
голыми ветлами тянутся берега.
Встала с востока звезда
и побелелым лицом
онемелой любовью
к твоим приклонилась ногам –
и тихой
слезою
стекла.
Вокруг
ни ветра, ни всплеска, ни всхлипа;
льдов кружева по краям; веток застылая тишь.
В неизреченную красоту
неразличимого лика,
вглядываясь, изумлённый, стоишь.
Холм. Преддверие весны
…Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.
МандельштамВозмите, врата, князи ваша,
и возмитеся врата вечная…
Славянская Псалтырьхолм – бурых трав перепутанных ком;
по талому склону, по горкам кротовым
сливаются тропы к реке – молоком,
стучат молотком ледовым.
в овраги бегут, в снеговые ручьи,
в залёгшие вглубь перелоги,
где плещут невидимые ключи
от торной весенней дороги –
дороги, что с ложа застылого сна
прозрачными смотрит глазами
в зенит, в стремительные небеса,
на облак летящее знамя,
на крылья, развёрстанные в закат,
на звонкий полет свиристелей…
– возьмутся врата, и невестой Ока
восстанет с ледовой постели;
и мы поплывём высоко, далеко,
где в ярком тепле горизонтов
прольётся небесных коров молоко
и золото в солнечных сотах.
«В глазницах кривых ветвей…»
В. Б.
В глазницах кривых ветвей,
в ресницах, в густой листве
светило моргает оком;
свечою дрожит река,
вечерние облака
застыли в беге высоком.
То притча твоих лет –
промчавшейся лодки след:
пройдя от края до края,
в распахнутых берегах
расплавленных крыл размах
в тени ракит замирает.
И тает… И вновь река
извечные ткёт холсты,
и в струях стоят тени,
как страны и как века,
где с солнцем плывёшь ты
в бессмертном твоём цветенье.
Берега в ноябре
К этой земле между явью и сном
стылым течением нас отнесло:
древней ветлы перекрученный ствол
в почву впивается словно сверло.
Здесь коренятся высокие реки,
здесь прорастают великие воды;
вдоль по волокнам, где годы, где веки
коробьями выгибает кора,
в руслах незримые веют ветра,
и, словно гусли, гудят времена,
и влекут племена кораблей
вверх по протокам ветвей.
По берегам, по причалам ракит
острой листвой паруса шелестят,
тёмною бронзой звенят – и звенит
ткань, где основу серебряных струй
стаей утиной нижет уток,
и, как челнок, улетает листок,
в волны ныряя на полном ветру.
Влажные капли в глубинах глазниц –
как ноздреватые камни легки! –
по-над телами полых цевниц
струны натягивают колки.
Грубую песню осень поёт
елям вечерним, ольховым утром –
О, эти плавания вдвоём
по нашим переплетённым мирам…
На память
пусть никто никогда и не спросит
о том, что не делят
на линии, ноты и слоги –
о таинстве света,
о прозренье –
и всё же, тогда
вспомни поле
с обрывками снега,
оврагу пустынной дороги,
и в глубокой неважности веток –
изумрудное
круглое небо
в нераздельном
свечении льда.
Лиса
Не колеблется ветром, не движится временем миг.
В нём, натянут как лук,
изогнут в тугое окружье,
замыкается мой необъемлемый мир
под округлое дальнее пенье кукушье.
Возвращение, как на ладони, дарёных пространств –
словно милостинка из рукава,
из овала лесного,
из опушек над переливами трав,
где кукушкино эхо… И я принимаю, и снова
пред собою кому-то протягиваю на ветру.
И лиса, из ложбины плеснувши внезапное пламя,
с полнолуньем сливает закат –
и как замкнутый круг
описует вселенную перед глазами.
Под липами