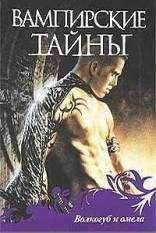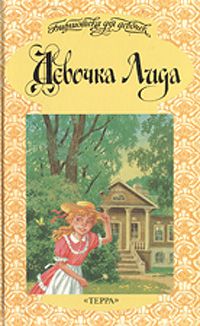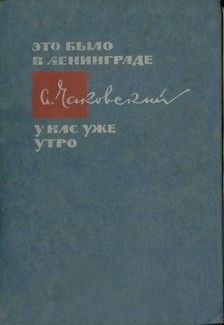Наш двор (сборник) - Бобылёва Дарья
Поднялся шум, вызвали милицию, но никого не нашли — ни детей, ни директора Андрея Ивановича Лотосова. Более того — не проходил нигде по бумагам никакой Андрей Иванович, и никто его в интернат не назначал. А документы, которые он сдал в отдел кадров, оказались поддельными.
В кабинете его тоже ничего, проясняющего личность директора, не нашли — только стопку синих тетрадей в ящике стола. Думали, это рабочие записи по тем самым занятиям, которые он проводил с детьми, а оказалось — фантастический безымянный роман о будущем, написанный ровным бисерным почерком, в котором весь персонал единогласно опознал директорский. Один милиционер увлекся, взял почитать, но потом сказал, что это бред какой-то, а в последней, незаконченной тетради и вовсе сначала знаки препинания пропадают, а потом и смысл.
Что за чудесное лекарство колол детям и себе сгинувший бесследно Андрей Иванович, никто так и не узнал. Черный портфель пропал вместе с ним — то ли остался запертым в одном из шкафчиков бассейна «Москва», то ли был спрятан в другом, более надежном месте. Ведь от интерната до бассейна было всего двадцать минут на автобусе, а Андрей Иванович всякий раз тратил на дорогу полтора часа.
Разумеется, самого директора первым делом и заподозрили в похищении воспитанников. Но никто из окрестных наблюдателей, собачников и пенсионерок из нашего двора не видел, чтобы по улицам куда-то вели детей. Никто даже не видел, чтобы они выходили из ворот особняка. Повариха Клавдия, большая поклонница как любовного, так и детективного жанров, плача, говорила милиционерам, что ведь следов, следов-то на дорожках в саду нет, а накануне дождик был, как дети могли уйти, не оставив следов, — не улетели же они?..
Ничего так и не выяснили, а интернат закрыли. На ажурные чугунные ворота повесили замок. Особняк стал еще одним манящим заброшенным домом, где так жутко и сладко играть, где стены исписаны непристойными словами, а под ногами хрустят шприцы. И никто больше не мешал детям из нашего двора лазать через ограду в заросший сад.
Говорят, однажды обитатели интерната вернутся. Случится это перед самым концом света, и они, дети будущего, придут не то спасти нас, не то — уничтожить окончательно.
Наверняка никто, конечно, не знает.
Роза Ада. Часть 1
В самой северной части нашего двора стоял дом с мозаикой. Другие дома, даже самые солидные, как-то терялись на его фоне, а примыкавшая к нему девятиэтажка, где прожил свою одинокую жизнь и принял нелепую смерть одинокий философ Лев Вениаминович, и вовсе казалась жалким новоделом. Девятиэтажка была «обдирная», то есть безо всяких внешних украшений, лепнины и завитушек, с голыми балконами и подслеповатыми окнами.
То ли дело дом с мозаикой. Вся верхняя часть его фасада была украшена картинами коммунистического счастья. Корзины, ломящиеся от винограда, яблок и разных неведомых фруктов, колхозницы с повернутыми в одну сторону египетскими грудями и охапками колосьев в руках, дева в белом, играющая на арфе, группа мускулистых пловцов, которая под ее аккомпанемент держала равнение налево… Над всем этим полнокровным великолепием когда-то сиял герб, но он осыпался еще при жизни бедного Льва Вениаминовича. Вся мозаика постепенно тускнела и сыпалась, а разноцветные керамические кусочки почитались у детей нашего двора большой ценностью, их хранили в тайных подкроватных сокровищницах вместе с фантиками от жвачек и прозрачными стеклянными шариками.
Раньше, когда герб был на месте, а мозаику раз в год мыли и подновляли, в дом селили всяких важных людей — не таких, конечно, важных, как в высотку в соседнем квартале, но тоже заслуженных: ученых, музыкантов, художников. Очень приличные семьи, как говорили во дворе. Одной из таких приличных семей были светловолосые и розовокожие Вейсы с пятого этажа. Их покойная бабушка некогда играла в театре и славилась красотой, а глава семейства был профессором. Он преподавал в каком-то институте, всегда имел официальный вид — его придавали строгий серый костюм и импортный портфель-дипломат — и ездил на собственной машине.
Происходили Вейсы из русских немцев, одевались красиво и жили хорошо. В самих чертах их лиц, в манере говорить, еле заметно смягчая согласные, чувствовался потускневший за десятилетия, но неубиваемый, как мозаика на фасаде, иностранный лоск. В жаркие моменты межквартирных баталий, когда кто-то кого-то заливал или шумел допоздна, Вейсов обзывали «ветчинными рылами» и обещали припомнить Сталинград, но в целом они были полноправной частью дворового добрососедского круга. А достаток и некую эфемерную заграничность им и вовсе простили после того, как они взяли девочку из детского дома.
И не просто так взяли, не потому, что не хватало в их благополучном доме непременного топота детских ножек. Топот обеспечивала их собственная упитанная дочка Ада, которая среди дворовых детей, учившихся в соседней немецкой школе, имела кличку Фройляйн. И обижалась на нее, потому что по неведомой ассоциативной прихоти ей чудилось в этом прозвище что-то лошадиное, кобылье…
Нет, не для себя они взяли девочку Розу, и история там была драматическая, которую пенсионерки, еще лишенные в те времена сериалов, очень любили по первости смаковать и перекатывать в жадной своей болтовне.
У Доры Михайловны, супруги профессора Вейса, с матерью этой Розы была в юности великая, взахлеб дружба. Учились тогда обе в балетной школе, где такие дружбы только и бывают. Потом Лилю, будущую Розину мать, забрали из школы и увезли не то в Самару, не то в Саратов. А Дора, которая только ради великой дружбы терпела адскую боль в слипшихся от крови пальцах на ногах, бросила балет и, как сейчас бы сказали, впала в депрессию. Дора целыми днями рыдала, отказывалась от еды и так исхудала, что педагоги за голову хватались и засылали к Вейсам гонцов — балетная ведь, совершенно балетная фактура пропадает, уговорите, чтобы одумалась.
Прошло несколько лет, Дора отъелась, поступила в институт и совершенно забыла о Лиле, но тут получила не то из Самары, не то из Саратова первое письмо. Лиля писала, что случайно нашла ее адрес, рассказывала, что недавно выписалась из больницы и очень скучает по балетным временам, а работает швеей. Дора радостно вступила с ней в эпистолярный роман, и длился он больше десяти лет, полный взаимных восторгов и сладких слез по утраченной юности. Дора к тому времени стала Дорой Михайловной Вейс, обзавелась дочкой Адой. Лиля несколько раз приезжала в ним в гости, они гуляли в парке Горького и плакали на «Жизели» в Большом…
А потом Лиля написала, что ее опять кладут в больницу и в этот раз уже, наверное, не вылечат. И нет у нее никого на всем белом свете, кроме дочери Розы, — вот тут, на листе в клеточку, с двумя кляксами, Роза возникла впервые, до этого ни слова о ней не было в письмах и при встречах, ни намека. И такой судьбы, писала дальше Лиля, как у нее была, по детдомам да по чужим углам, она Розе меньше всего желает… Какой еще судьбы, моргала изумленная Дора Михайловна, Лилечка же не сирота, родители приходили за ней в балетную школу и забрали ее оттуда тоже они. И какая Роза, откуда Роза?.. В память об их утраченной юности, об их чистой дружбе, о великой красоте искусства, частью которой они так и не сумели стать, Лиля заклинала Дору Михайловну пригреть, взять под крыло, спасти ее Розку. Не дай пропасть, писала она, нажимая на ручку все сильнее, прорывая бумагу, — не дай пропасть, спаси Розку, у нее нет больше никого на свете, спаси, спаси Розку…
Дора Михайловна немедленно отправила подруге паническое письмо с подробными расспросами: в чем дело, в какой ты больнице, что за диагноз, где девочка, сколько ей лет, что происходит, как помочь?
В ответ пришел конверт с адресом областной психиатрической лечебницы. Почерк казался незнакомым, угловатым и крупным, детским, с нелепой петелькой над прописной «б». Судя по содержанию, писала все-таки Лиля. Она с отрешенной непосредственностью рассказывала, что десять с лишним лет назад, вскоре после переезда не то в Саратов, не то в Самару, когда она сама очень плакала, мать отправила ее за молоком, чтоб хозяйством занималась, а не дурью. И она взяла бидон и пошла за молоком, в валенках, валенки были очень большие. А вернулась к запертой двери, под которую натекла застывающая лужица темной крови. И все в доме — мама, папа, дедушка — были мертвые. Их всех застрелили из папиного ружья, которое потом каким-то образом снова оказалось в закрытой на крючок кладовке. Вообще все в доме было закрыто — дверь изнутри на замки и цепочку, а окна на шпингалеты. Как будто они там сами заперлись, убили себя, положили ружье на место и чинно сели на диване мертвые, с развороченными лицами. Вот после этого ее и забрали в лечебницу в первый раз.