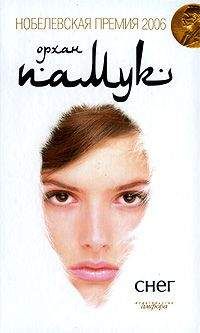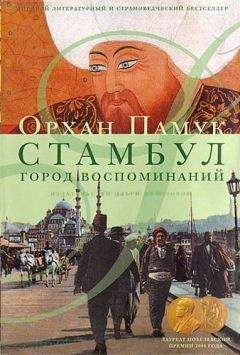Орхан Памук - Снег
– Я никого не узнал.
– Когда стало понятно, как ты любил мальчика, который отвел тебя к Ладживерту, военные хотели задержать тебя. У них вызывало подозрение, что ты накануне переворота приехал из Германии и то, что, когда убили директора педагогического института, ты был там. Они хотели допросить тебя и под пытками узнать, что ты скрываешь, но я остановил их, поручившись за тебя.
– Спасибо.
– До сих пор непонятно, почему ты поцеловал того мертвого мальчика, который отвел тебя к Ладживерту.
– Я не знаю, – ответил Ка. – В нем было что-то очень честное и искреннее. Я думал, что он проживет сто лет.
– Хочешь, я почитаю тебе, что за фрукт был этот Неджип, которого ты так жалеешь?
Он вытащил бумагу и прочитал, что Неджип в марте прошлого года однажды сбежал из школы, был замешан в инциденте с разбитым стеклом в пивной «Неше» из-за того, что там продавали алкоголь в Рамазан, что какое-то время работал в областном отделении Партии благоденствия по мелким поручениям, но его убрали оттуда то ли из-за его экстремистских взглядов, то ли из-за того, что он пережил нервный приступ, который всех напугал (в отделении партии было несколько информаторов); что он захотел сблизиться с Ладживертом, которым восхищался, во время его приездов в Карс за последние полтора года, что написал рассказ, который сотрудники НРУ сочли «непонятным», и отдал его в одну религиозную газету Карса, которая выходила тиражом в семьдесят пять экземпляров, и после того, как его странным образом несколько раз поцеловал один аптекарь на пенсии, который писал колонку в этой газете, они со своим другом Фазылом строили планы его убить (оригинал записки, которую они собирались оставить на месте преступления, был украден и приобщен к делу в архиве НРУ), что они с приятелем иногда прогуливались, смеясь, по проспекту Ататюрка и однажды в октябрьский день делали неприличные знаки вслед проехавшей мимо них полицейской машине.
– Национальное разведывательное управление здесь работает очень хорошо, – проговорил Ка.
– Они знают, что ты ходил в дом шейха Саадеттина, где размещена подслушивающая аппаратура, и, подойдя к нему, целовал ему руку, со слезами на глазах говоря, что веришь в Аллаха; что ты ставил себя в неприглядное положение перед всеми, кто в почтении стоял там, но они не знают, зачем ты все это делал. Ведь очень многие поэты этой страны, придерживающиеся левых взглядов, беспокоятся о том, как бы стать верующими, пока исламисты не пришли к власти, и примкнули к ним.
Ка густо покраснел. И смутился еще больше, так как почувствовал, что Сунай считает это смущение слабостью.
– Я знаю: то, что ты увидел сегодня утром, тебя расстроило. Полиция очень плохо обращается с молодыми людьми, среди них есть даже звери, которые избивают ради удовольствия. Но сейчас оставим это… – Он протянул Ка сигарету. – Я тоже, как и ты, в молодости ходил по улицам Нишанташи и Бейоглу, смотрел как безумный западные фильмы, прочитал всего Сартра и Золя и верил, что наше будущее – это Европа. А сейчас я не думаю, что ты сможешь спокойно наблюдать, как этот мир рушится, как твоих сестер заставляют носить платок, как запрещают стихи за то, что их не одобряет религия, как в Иране. Потому что ты – из моего мира, в Карсе нет больше никого, кто читал стихи Т. С. Элиота.
– Читал Мухтар, кандидат в мэры от Партии благоденствия, – сказал Ка. – Он очень интересуется поэзией.
– Нам уже даже не надо его арестовывать, – сказал Сунай, улыбнувшись. – Первому же военному, который постучал в его дверь, он вручил подписанное им заявление о снятии своей кандидатуры.
Раздался взрыв. Оконные стекла и рамы задрожали. Оба посмотрели туда, откуда донесся грохот, в окна, выходившие в сторону речки Карс, но, не увидев ничего, кроме покрытых снегом тополей и обледенелых карнизов обычного пустого дома на другой стороне дороги, подошли к окну. На улице не было никого, кроме охранника, стоявшего перед дверью. Карс даже в полдень был невероятно печален.
– Хороший актер, – произнес Сунай, как на сцене, – выявляет силы, которые копились в истории годами и столетиями, силы, которые были спрятаны, которые не взорвались и не вырвались наружу, силы, о которых не говорили. Всю свою жизнь в самых отдаленных уголках, на самых неизведанных путях, на самых маленьких сценах он ищет голос, который сможет даровать ему настоящую свободу. А когда находит, то должен, не боясь ничего, идти до конца.
– Через три дня, когда снег растает и дороги откроются, Анкара призовет вас к ответу за пролитую здесь кровь, – сказал Ка. – Не из-за того, что им не понравится, что пролилась кровь. А из-за того, что им не понравится, что это сделали другие люди. Жители Карса возненавидят тебя и эту твою странную пьесу. Что тогда ты будешь делать?
– Ты видел врача. У меня больное сердце, я дошел до конца своей жизни, мне наплевать, что будет, – ответил Сунай. – Послушай, мне пришло в голову вот что: говорят, если мы найдем какого-нибудь человека, например того, кто убил директора педагогического института, и сразу повесим его и даже покажем это в прямой трансляции по телевидению, весь Карс станет податливым, как воск.
– Они уже сейчас как воск, – сказал Ка.
– Готовится атака террористов-смертников.
– Если вы кого-нибудь повесите, все будет еще ужасней.
– Ты боишься, что, если европейцы увидят, что мы здесь делаем, мне станет стыдно? Ты знаешь, сколько человек они повесили для того, чтобы построить тот современный мир, которым ты восхищаешься? Такого, как ты, либерального мечтателя с птичьими мозгами Ататюрк повесил бы в первый день. Запомни хорошенько, – сказал Сунай. – Даже студентам училища имамов-хатибов, которых ты видел сегодня, твое лицо врезалось в память, и они больше никогда его не забудут. Они могут кинуть бомбу везде, в каждого, лишь бы только их голос услышали. И, кроме того, раз ты читал стихотворение прошлой ночью, значит тебя считают участником заговора… Чтобы в этой стране могли дышать те, кто хоть немного европеизирован, в особенности эти задаваки-интеллигенты, презирающие народ, существует потребность в светской армии, или же сторонники религиозных порядков хладнокровно перережут их и их крашеных жен тупыми ножами. Но эти умники считают себя европейцами и брезгливо воротят нос от военных, которые на самом деле их защищают. Неужели ты думаешь, что в тот день, когда эту страну превратят в Иран, кто-нибудь вспомнит, что такой сердобольный либерал, как ты, проливал слезы из-за парней из училища имамов-хатибов? В тот день они убьют тебя за то, что ты слегка европеизирован, что от страха не читаешь басмалу[52], что ты щеголь, что ты носишь галстук или пальто. Где ты купил это красивое пальто? Я могу его надеть на спектакль?
– Конечно.
– Я дам тебе охранника, чтобы в твоем пальто не появилась дырка. Через какое-то время я объявлю по телевидению, что выходить на улицу можно будет только с середины дня. Не выходи на улицу.
– В Карсе не так уж много «религиозных» террористов, которых следует бояться, – сказал Ка.
– Хватит и тех, что есть, – ответил Сунай. – К тому же этим государством можно законно управлять, только посеяв в сердцах религиозный страх. И потом становится ясно, что этот страх, как всегда, справедлив. Если народ испугается сторонников религии и не найдет защиты у власти и армии, то впадет в анархию и в отсталость, как это происходит в некоторых клановых государствах Ближнего Востока и Азии.
Его речь, которую он произносил, стоя совершенно прямо, словно отдавая приказы, его частые долгие взгляды на воображаемую точку над зрителями напомнили Ка его выступление в театре двадцать лет назад. Но это его не развеселило; он чувствовал, что и сам играет в той же вышедшей из моды пьесе.
– Скажите же, чего вы от меня хотите, – проговорил Ка.
– Если меня не будет, тебе будет трудно уцелеть в этом городе. Сколько бы ты ни угождал любителям религии, все равно тебе продырявят пальто. Я твой единственный защитник и друг в Карсе. Не забудь, если ты потеряешь мою дружбу, то застрянешь в одной из камер на нижнем этаже в Управлении безопасности и отведаешь пыток. Твои друзья в газете «Джумхуриет» поверят не тебе, а военным. Знай это.
– Я знаю.
– Тогда скажи мне, что ты этим утром скрывал от полицейских, что ты похоронил в углу своего сердца вместе с чувством вины?
– Кажется, здесь я начну верить в Бога, – сказал Ка, улыбнувшись. – Именно это я, может, все еще скрываю даже от себя.
– Ты заблуждаешься! Даже если ты поверишь, нет никакого смысла верить в одиночку. Нужно, например, верить так, как верят бедняки, и быть одним из них. Только если ты будешь есть то же, что они, и жить как они, смеяться над тем, над чем смеются они, и сердиться на то, что сердит их, тогда ты поверишь в их Бога. Ты не сможешь верить в того же Аллаха, что и они, если будешь вести совсем другую жизнь. Аллах справедлив настолько, что знает – дело не в проблеме разума и веры, а в проблеме жизни в целом. Но это не то, о чем я сейчас спрашиваю. Через полчаса я выступлю по телевидению и обращусь к жителям Карса. Я хочу сообщить им благую весть. Я скажу им, что поймали убийцу директора педагогического института. Вполне вероятно, что этот же человек убил прежнего мэра. Я могу им сказать, что ты опознал этого человека сегодня утром? А затем по телевидению выступишь ты и все расскажешь.