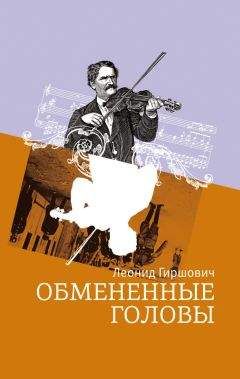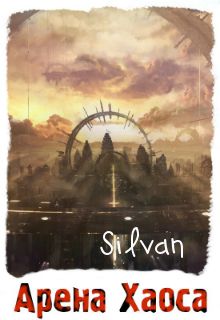Леонид Гиршович - Арена XX
«Именно тогда, когда по традиции мужчина должен предстать во всеоружии своей своей мужественности, он становится женственным, с чисто девичьим замиранием сердца устремляется в Сад Любви, где можно, не таясь, срывать лозу бесстыдства. Обратное происходит с женщинами. Они вступают в полосу возмужания, их голос густеет, движения становятся грубыми и резкими. Налицо взаимность перевоплощения. Правда, – добавляет кандидат уже с лукавинкой во взоре, – большинство женщин платит дань фантомным инстинктам: дескать, в этом находит выход их безудержное материнство – есть такая дамская палочка-выручалочка. То самое материнство, что распространяется сугубо на младенцев мужского пола, оставляя за младенцами женского пола право на отцовскую грудь».
Плоть – в любом случае перверсия: «“Я бы хотела на один день стать мужчиной – почувствовать, что и вы”. И мы с ней на один день поменялись. Но потом ее арестовали за изнасилование и приговорили к 25 годам. И вот я хожу под окнами тюрьмы – кому я такой нужен, кроме уголовников». Самое скучное соитие, самое бескрылое (подобрав слово, задним числом вывел его генеалогию от кузминских «Крыльев»), и то в потенциале потянет на электрический стул – с учетом бактерий, которыми кишит всякое соитие.
Родничок плоти когда-нибудь да зарастает – хоть и медленно, и не без осложнений. То, что зовется распущенностью, ранней половой жизнью, меня благополучно избавило от этих осложнений. В наш век не только победившего контрацептива, но и торжествующего неовикторианства, когда один гомофил говорит другому: «Я отдамся тебе не раньше, чем мы поженимся», атмосфера откровенности, в которой я рос, впечатляет. Бес желания изгонялся бесом его удовлетворения без малейших колебаний – по принципу similia similibus. «Измена – это поцелуй, остальное…» – и моя матушка, учившая меня жизни, махнула рукой в сторону уборной. («Любовь возможна только платоническая, остальное вавилонская блудница» – вот что это на самом деле.)
На уроках я не получал записочек, в меня не влюблялись. Летом на даче меня никуда не звали и не кричали мне под окнами: «Юлька, идем же!». Я не любил ходить на пляж, где приходилось снимать майку. «Будем шить лифчик Анечке, заодно сошьем и тебе», – дразнилась бабушка Гитуся, в этот момент она становилась посторонней тетенькой, в глазах азарт. Несколько лет спустя, уже после смерти деда, она прокомментировала вольные нравы молодежной еврейской компании с многозначительной старушечьей усмешкой: «А по закону-то Моисееву приятней».
Что касается Анечки, которой был сшит первый лифчик, то мы с ней играли лишь на озаренной солнцем поляне. Никаких темных мест, никаких глубоких вод – ничего, о чем неловко было бы вспоминать, разве что вместе ловили голубых стрекоз, «таких совершенных в полете и таких гадких на огне». То есть мы их заживо жгли. Не знаю, как она, но я понимал, что это – преступление против человечности в миниатюре и уж всяко хуже инцеста в миниатюре.
Икс: «Я настолько умен, что мне неинтересно». Игрек: «Икс – такой дурак». Но Иксу безразлично, что думает о нем Игрек. Он весь в своих докомпьютерных грезах одиночки-демиурга. Параллельная жизнь помогла мне рано нарастить слоновую кожу. Я не чувствовал боли, кроме как за отца – с его плюханьем воды в суп, с его подъеданием за всеми в тарелках, с его нотным манускриптом на полке: «Марк Гуревич. Род. 1920 г. Симфония № 1». «Без мамочки мы бы все погибли, – вздыхал он. – Она готова на любые жертвы. В Ташкенте…»
Но слезы детей за родителей – это не те, которые «наоборот», не дай Бог. Они сохнут быстро. «У вас сложная система защиты», – заметил мне психиатр. А когда мы коснулись некоторых аспектов моей частной жизни, добавил: «Ну, вы монстр». На кушетке Фрейда, однако, я себя не вижу. Только за одну веревочку психоаналитик мог бы меня дергать: боязнь высоты, что, впрочем, сия занимательная наука «больше не относит к проявлениям навязчивых неврозов, а объясняет как Angsthysterie» – истерию страха. И правда, страх – моя ахиллесова пята. На щите моем начертано: «Бойся!». Я так боюсь, что мне даже страшно сказать, за кого. А перед Кем – и так понятно. Остальное мне более или менее безразлично, в том числе успех или неуспех этой книги: «я настолько умен, что мне неинтересно».
Впервые мороженое с шампанским я попробовал, когда еще учился в музыкальной школе напротив мороженицы. Подавальщицу звали Нэлей. Имен у нас в ассортименте, как мороженого: сливочное с изюмом, да черносмородиновое, да крем-брюле. «Нэля», «Инга», «Феликс» это еще маргиналы обыденности, а не типические ее представители.
– С сиропом?
– С шампанским.
– Лицам до шестнадцати лет не отпускаем.
– А мне сегодня исполняется, вот и праздную. Вот и вас бы пригласил.
– Ишь ты. Смотри, чтоб живот не заболел от пузырьков-то.
– Живот на живот – все заживет.
Я сыграл нахала. («Раз я пошла на речку, за мной следил нахал…» – помните?) Этого требовала низость жанра, и тут, понятное дело, я становился конформистом: «то, что делают все – делать как все». Во всем остальном естественнейшим образом не снисходил: раскачивался на нижней ступеньке веревочной лестницы, сильно не достающей до земли, спрыгнуть на которую мешала врожденная боязнь высоты.
По Фрейду, любая шутка с половым оттенком призвана пробудить в другом/другой половое желание. С Нэли началась моя ранняя (13) половая жизнь. Открываю наугад том Лескова и читаю: «В Англии бы вас за это повесили». Закрываю в ужасе: «Why?». С интонацией пацифистского плаката, на котором американский солдат роняет винтовку, чтобы в следующее мгновение упасть. (Так и подмывает сказать: «Дура! Кто не рискует, тот не пьет шампанского».) Ни одна из наших с нею встреч не продолжалась более часу, и нанесли они в общей сложности нашему семейному бюджету урон в 80 руб. – дважды по сорок. Не боюсь, потому что некому швырнуть в меня камень первым.
Я был ей в диковинку, может быть, даже волнующую диковинку. Во всяком случае, когда через восемь лет я сказал ей «чао», объяснив, что женюсь, она плакала.
КРАСОТАКрасота по-европейски это музей, где автор – время. А так всё как всегда: подлинность – критерий качества, а не качество – критерий подлинности. Оригинальные 30-е годы, оригинальные 50-е годы, оригинальный ХХ век. Образ, создаваемый эпохой, – это образ самой эпохи. Не только целые десятилетия – каждый сошедший в могилу год имеет свою физиономию. Вход в эту портретную галерею – привилегия памяти, хотя можно и симулировать ее, важно не попасться. «Время – деньги? Нет, – говорит Европа, – время – красота».
– Время – красота, раз… Время – красота, два… Время – красота, три… Продано!
То есть эпоха как источник эстетического переживания несовместима с творческим анахронизмом, а ты приписываешь себе не тобою прожитые годы. Главная беда, и твоя, и тебе подобных, что в какую бы эпоху вы не жили, вы всегда сетуете на то, что опоздали родиться. Но поймавший на свою альтовую удочку золотую рыбку, ты навряд ли сказал бы ей: желаю быть другим и жить в другое время. Либо слушать музыку по правилам XIX века, либо лечиться у современных врачей, решай. Поэтому скорее выбрал бы для себя грядущее (допустим, оно уже существует), вообразив, что там отыщется и обожествляемое тобою вчера. Однако есть риск самому быть неузнанным, никому не ведомым или того пуще, слишком хорошо знакомым: «Юлик Гуревич из ХХ-го? Да их тогда как собак нерезаных бегало, этих юликов гуревичей». Так и пребываешь в сомнении: а что как ты «не впереди забега, а отстал почти на целый виток»?
В оправдание своего культурного анахронизма можно сослаться на быт своих детских пятидесятых, назвав его небытием, кладбищем. Время застыло, как стрелки на простреленных часах в момент убийства. После исторического залпа жизнь как форма распада: внутри покойника тоже идет копошение. В Ленинграде жить, как в гробу лежать. Зато с полным на то основанием присваиваешь опыт предшествующего поколения: он идентичен твоему.
Не было существенного различия между обиходом моего ленинградского детства и казанского – моей матери, когда до «мирного времени» можно было еще рукой дотянуться и оно было точкою отсчета. Те же предписания гигиены и способы следовать им, та же нательная детская амуниция (чулочки на резиночках с лифчиком), тот же рыбий жир, наливаемый из аптечной склянки в чайную ложечку, то же ваньковставание при появлении учителя в классе.
Заспиртованными сохранялись и вкусы нескольких поколений кряду. О них лучше судить не по репертуару кинотеатров, а по репертуару «культурно-воспитательной части» – КВЧ. Это был симбиоз цыганской шали и аргентинского танго (с Малой Арнаутской). У титанов революционного искусства все ушло в пропагандистский свисток, оценить который по силам было только загранице. А о том, что «Дунаевского пела вся страна», пусть говорят те, для кого приметами времени являются: