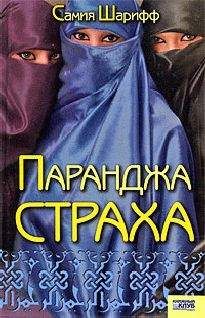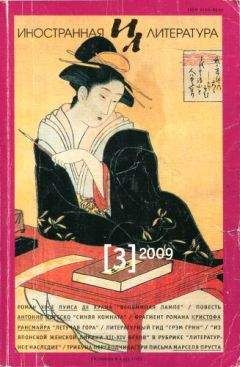Валерий Губин - Вечное невозвращение
— Чего это ты вдруг?
— Он мне сегодня приснился и уверял, что живой, а все слухи о его смерти распространяют враги.
— Мне он тоже часто снился — первые годы почти каждую ночь. А теперь все реже.
— Наверное, он уже ушел в какие-то далекие от нас сферы бытия, и мы его больше не чувствуем.
— Что еще за сферы?
— Не знаю. Просто я, чем дольше живу, тем окружающее становится призрачней, как бы расплывается, и я думаю, что все больше ухожу из этого мира, освобождаюсь от него. Потом совсем уйду, вдогонку за Эдиком.
— Это наше сознание к старости выкидывает фокусы!
— Может быть.
— Скажи, а телефон у тебя не изменился?
— Нет, только первую двойку поменяли на шестерку. Ты его помнишь? Тогда позвони как-нибудь, хорошо?
У меня и в самом деле было много работы, две недели большой аврал, и только отдыхая на даче, я вдруг вспомнил о Марине и позвонил. Механический голос произнес:
— Номер, который вы набираете, не существует.
Я нисколько не удивился и подумал, что существование Марины становится для меня таким же призрачным, как для нее окружающий мир. Есть ли она на самом деле, или разыгрывает меня, не сообщая свой настоящий адрес и телефон? Раньше она никогда не была склонной к розыгрышам, вспоминал я, да и наши шутки часто не понимала. Она была излишне чопорной и несколько скучноватой.
Наступила долгая дождливая осень. Я бегал на работу, потом по разным халтурам, везде платили мало, и приходилось выкручиваться. Один раз встретил приятеля из нашей распавшейся компании. Приятель был забавным, всю жизнь нигде не работал, чем жил — неизвестно. Он все время писал философские книги, не пользующиеся никаким признанием. И это его никак не расстраивало: сам печатал несколько экземпляров, сам переплетал и раздавал друзьям. У меня было пять или шесть его произведений, в которые я никогда не заглядывал, вернее, один раз заглянул в первую, и понял, что читать там нечего, а автор — просто сумасшедший. Сумасшедший во всем, что касается философии. А в остальном — вполне адекватный человек. Как ни странно, я не помнил точно его имени. Его всегда звали Далин. Но это был псевдоним.
Спросил его о Марине. Он давно не заходил и не звонил, но однажды, месяц назад, видел ее издалека, в кинотеатре, в "Ударнике" — сидел на балконе, а она пробиралась между рядов в партере.
Как всегда, он вяло попросил у меня взаймы. Я дал ему пятьдесят рублей, зная, что он принципиально не возвращает долги. Наверное, ему давно уже никто не давал в долг, поэтому он обрадовался, и обещал сходить к Марине, все выяснить. Потом мы пошли в метро, и я видел, как он навалился на человека, проходя через турникет, а потом огрызался в ответ на его замечание. В метро он тоже принципиально не платил уже много десятилетий. Если раньше наблюдать это было смешно, то сейчас мне стало грустно — как никак, ему уже около шестидесяти.
Марина права, думалось мне. К закату жизни начинаешь верить, что устойчивые, непоколебимые формы мира: вещей, растений, животных — это иллюзия. Мир постоянно мерцает, соткан из наших тьмы наших желаний, фантазий, заблуждений. Может быть, мы и сами иллюзия. Пока мы кому-то нужны, кто-то нас любит и помнит — мы существуем. А когда остаемся одни, то растворяемся в этом вечном круговороте мерцаний, и неизвестно — продолжаем ли существовать?
Марина осталась одна, никому не нужная, и ее существование стало настолько призрачным, что она исчезла. В каком смысле исчезла — неизвестно, но никто не может с определенностью сказать — есть она, или умерла.
Хотя нет, есть люди, которые могут. Она же говорила, что до сих пор работает в институте. Надо туда съездить. Или лучше позвонить.
С трудом достал телефон кафедры и почти неделю безуспешно звонил — никто не брал трубку. В ректорате, куда снова обратился, заверили, что телефон правильный, просто преподаватели на кафедре бывают редко, а лаборант, возможно, болен. Я-то знал, что дело не в преподавателях и лаборантке, просто чертовщина, окружавшая все, что связано с Мариной, продолжалась. В глубине души чувствовал, что надо все бросить, но почему-то продолжал упорствовать.
Наконец на мой звонок ответили. Я спросил доцента Максакову и молодой женский голос ответил, что сейчас на кафедре никого нет.
— Но она работает на кафедре?
— Не знаю.
— То есть, как, не знаете?
— Я новенькая, здесь всего неделю, и еще не всех знаю.
— Но расписание у вас на кафедре висит? Посмотрите.
— Расписание забрали в учебную часть, переделывают.
— А завкафедрой когда бывает?
— Не знаю. Кажется, он болен.
Я чуть не выругался, и бросил трубку.
Когда Марина позвонила в следующий раз, я уже ни о чем не спрашивал ее. Мы говорили об Эдике, о том, каким он был большим любителем собак, и сколько собак одновременно жили в его квартире. Оказывается, Марина не знала о сенбернаре, который своей тушей занимал половину прихожей и всем гостям пачкал одежду своей слюной.
— Я последние годы у них не была. Ясенево от меня далеко. И куда этот сенбернар делся?
— Пропал. Маша ходила с ним гулять, он вырвался, убежал, и больше его не видели.
— Жалко, — она долго молчала, и я слышал в трубке ее дыхание.
"Раз слышно дыхание, — значит живой человек. Просто ей смертельно скучно жить, вот она и развлекается", — подумал я.
— Может быть, как-нибудь заедешь. Ко мне никто из нашей компании не приходит, не звонит. Я как будто в гробу в своей квартире.
— Ну, уж? На работу ходишь? К Бахрушину ходишь?
Марина была большой любительницей вокального пения и регулярно посещала вечера, посвященные великим певцам, в Бахрушинском музее.
— Все равно большую часть времени я провожу дома.
— К декабрю отдаю рукопись, частично освобождаюсь, созвонимся и обязательно встретимся.
Она вздохнула и опять долго молча дышала в трубку.
Выпал первый снег и сразу лег, не растаял, и на его фоне дома стали еще более черными и печальными. Я вспомнил те далекие времена, когда радовался первому снегу, испытывал подъем, казалось, что все меняется к лучшему, что скоро Новый год, а там и начнется что-то новое, необыкновенное.
Неожиданно позвонил мой философ-любитель, о котором я и думать забыл. Он заходил к Марине, но никто не ответил на звонок в дверь, потом встретил соседа с нижней площадки и тот сказал, что Марина, по слухам, давно продала квартиру и уехала в Ярославль. Во всяком случае, здесь он ее больше не видел, а кто живет в квартире, не знает. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь оттуда выходил. Но вот по ночам часто слышно, как наверху ходят. Дом довоенный, перекрытия деревянные, хорошо слышно — кто-то ходит и ходит, взад-вперед.
— Так что вот так вот, старичок! Как говорится — ит воз бикоз колхоз! Кстати, не займешь сто пятьдесят? Сразу двести отдам.
— Сейчас не могу, все, что было — послал в Таиланд, жертвам цунами.
— Кто же деньги посылает? Надо было одеяла посылать. Сгущенку!
— Нет у меня лишнего одеяла.
— Да, с одеялами у всех напряженка. Ну, бывай, старичок! Ариведерчи Рома! Если что — звони.
"Значит она все-таки там. И ходит по ночам. Кому же еще ходить? Недаром она про гроб упоминала!" — думал я, повесив трубку.
Ночью снился сумбур — я стоял возле дома и вглядывался в раскрытые окна ее квартиры на третьем этаже. В окнах мелькали незнакомые лица. Один раз появился Далин, помахал мне рукой. Я крикнул:
— Марина дома?
— Оу йес, шартрез! — прокричал он в ответ и скрылся за шторами.
Я сложил руки рупором и стал вызывать Марину. Долго вызывал — целую вечность, даже почувствовал, что от крика заболело горло. Наконец она появилась. Я знал, что это была она, но все-таки это было не ее лицо: страшная, нечеловеческая маска, не мигая, смотрела на меня. Я почувствовал — еще мгновение, и превращусь в камень, дернулся — и проснулся. Проснулся и услышал, что звонит телефон.
— Ты не спишь уже?
Я посмотрел на телефон — шесть утра.
— Да, уже не сплю.
— А я давно не сплю, очень рано просыпаюсь, идти в такую рань некуда, и хожу, хожу по квартире, из комнаты в комнату, словно что-то потеряла. Ты помнишь Толика-певца?
— Конечно.
Толик был самым старшим из нас и на всех наших сборищах обязательно пел романсы. Так мы его и называли между собой: Толик-певец. Голос у него был мощный, как иерихонская труба. Он и не пел, а как будто трубил. Работая бухгалтером, он непременно хотел устроиться в штат в какую-нибудь областную филармонию, объехал все областные столицы, но нигде не брали. Я думаю, не из-за голоса, а из-за физиономии. Она у него была совершенно зверская, как у киношного маньяка-убийцы. А когда он пел, это впечатление многократно усиливалось.
— Я встретила Иру, та сказала, что он уехал в Америку. Ты помнишь его гипотезу о влиянии вибрации голосовых связок на организм?