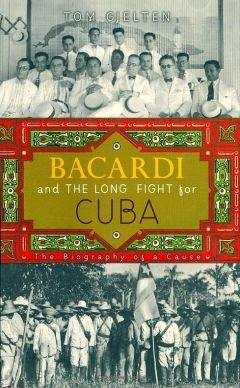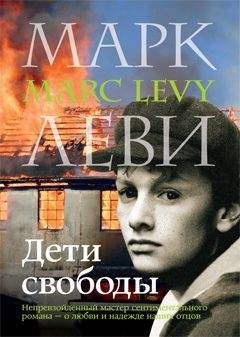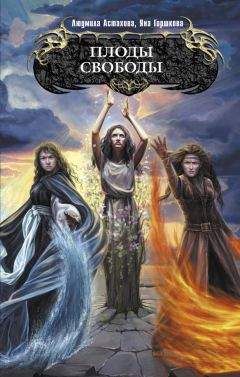Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
ЗАБРОШЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
Полковник лег, и Андреа знала это, как знала и то, о чем он думает и на что сетует. Она тоже на свой лад разбиралась в тонкостях и хитростях старого дома, в который их привела судьба. Если Полковник-Садовник жил в нем уже сорок три года, то и она не меньше того.
Сорок три года на этом безобразном пляже с видом на море и линию горизонта, которые она знала как саму себя. Кое-что она за это время приобрела и гораздо больше потеряла.
«Он что, воображает, что он один страдает от заточения на этом острове, от выпавшей нам суровой доли?»
Она подошла к застекленному шкафу, открыла центральную дверцу и достала резной бокал темно-красного стекла. Доктор очень ценил этот бокал, почему — она не знала, но знала, что в этом красном резном бокале даже тростниковая водка имеет вкус виски. Он достала также припрятанную бутылку дрянного рома. Этот ром был только ее, ее секрет (один из ее секретов). Сделала два больших, щедрых глотка и села в свое кресло, бывшее когда-то креслом-качалкой. Термиты сточили гнутые деревянные полозья, и Андреа обнаружила, что после этого кресло стало гораздо удобней. Много лет назад она имела привычку, сидя в этом кресле, рисовать по ночам. На подлокотники она клала доску, на которой располагала альбом и акварели. А также веточки или цветы, которые собиралась срисовывать. У ее ног ложились кошки. Иногда две, иногда три (а иногда и четыре). Она не звала этих кошек, они приходили в дом, она наливала им молока, и они уже не уходили.
Так, в кресле, за рисованием Андреа могла проводить долгие часы. До рассвета. Без отдыха. Вернее, отдыхая по-другому, поглощенная бесполезным увлечением, которому она выучилась у тети Вины.
Это продолжалось до одного прекрасного дня восемь или девять лет тому назад. Ее вдруг утомила бесполезность этого занятия. Или утомила нужда. Когда она не смогла доставать бумагу, акварель, кисти и даже карандаши — ни цветные, ни простые, — Андреа решила, что закончились времена «ботанического иллюстратора», как она в шутку себя называла, чтобы предупредить возможные насмешки на свой счет, чтобы никто не издевался над тем, что когда-то было для нее так важно. В первые месяцы 1966 или 1967 года (разве вспомнить точную дату того незначительного события?) Андреа рисовала цветы одними карандашами. По мере того как исчезали рисовальные принадлежности, пропадали и навыки. И самое печальное: пропадал энтузиазм и вера. Ее последние иллюстрации походили на неловкие рисунки не очень наблюдательного и еще менее чувствительного ребенка.
Но поскольку ее руки, какими бы неловкими они ни стали, не могли находиться без дела, Андреа начала вязать. Теперь костяным крючком она вязала носки из овечьей шерсти, мужские и женские. У нее сохранилось пять или шесть довольно больших коробок с клубками перуанской шерстяной пряжи, отличной мериносовой шерсти, принадлежавших когда-то Ребекке Лой, так что вязанием она была обеспечена. До самой смерти. Андреа не сомневалась, что свяжет столько носков, сколько захочет, и клубки не закончатся. Это занятие было столь же бесполезным, потому что кто же будет носить на Кубе носки из перуанской шерсти? Шерстяные носки никогда не пригодятся на острове, никто не наденет их даже в самую холодную из зим. Поэтому они копились в ящиках шкафа. Носки всех размеров и цветов. И таким образом, всегда оставалась возможность, если однажды нитки закончатся, распустить их и связать заново.
Не стоит думать, что Андреа было не о чем беспокоиться или что она так убивала время в ожидании, например, какого-нибудь почитателя. Она вязала носки, а не саваны. И делала это, потому что по ночам, когда глаза отказывались закрываться, ее руки не могли оставаться без дела. К тому же на Кубе не важно, что именно рисовать, сооружать или вязать: иллюстрации, шарфы, пальто, перчатки. Носки… Все равно на острове ничего из этого не пригодится. А носки, по крайней мере, были хороши своей незатейливостью.
Так, бросив срисовывать цветы, Андреа посвятила себя вязанию, чтобы занять руки и отогнать бессонницу. Сколько на свете скверных болезней, но нет ничего хуже бессонницы. Эта болезнь, несомненно, была самой гадкой. Спать означало забыть. Умереть, чтобы вернуться к жизни на следующий день. А не забывать… никогда, ни в какое время суток. Страшное наказание. Как это изматывает. Она не знала, что делать со всем этим временем и этой ясностью ума. И она вязала. Поэтому. Носки или что угодно другое. Так думала Андреа, в то время как ее руки, словно жившие своей, отдельной, жизнью, продолжали двигаться. Ее «вторая жизнь», как она это называла, состояла из тоски и вопросов.
«Где теперь мой сын? К какому берегу приплыл Эстебан? Иногда я думаю, что Эстебан не утонул, если бы он утонул, «Мейфлауэр» не оказался бы снова в сарайке. А Серена? Куда же ты ушла, моя бедная Серена? Может, они теперь вместе, Серена и ее брат? Только от Амалии есть вести. Вернее, вестей нет, но это все равно, потому что Амалия никуда не ушла, она здесь. Хоть ее и нет рядом, она дышит, и пьет ром, и видит, как проходят дни и сменяют друг друга времена года. И почему же все сложилось именно так? Зачем мы узнали Сэмюеля О’Рифи? Почему стали жить в этом доме? Интересно, у всех такая тяжелая жизнь или только у меня, у нас? Что я сделала не так? Где, в какой момент совершила ошибку? Неужели один неверный шаг может повлечь за собой цепь страданий, потерь, провалов и несчастий? Неужели одна маленькая ошибка, простая оплошность может все нарушить? Где я ошиблась? В чем?»
Вопросы не кончались. Не давали передышки. Каждый вопрос тянул за собой следующий. Ответов на них не было. Ответов не существовало.
Что до тоски, то она всегда выражалась жалобными причитаниями: «Что за жизнь, Господи, сколько горя хлебнули, беды одна за другой, и так пятьдесят один год, хотя больше, пятьдесят пять, если быть точной. С самого начала было ясно, было понятно, что будет катастрофа, и я спрашиваю себя…»
И снова возвращались вопросы.
Поэтому она закрывала глаза. Всегда по ночам она задавала себе вопросы, вязала носки и закрывала глаза. Иногда, в более спокойные, менее тоскливые, более звездные, чем обычно, ночи она слышала голос тети Вины, читающей стихи Амадо Нерво:
Каждая роза, что нежный бутон раскрывает,
Каждый рассвет, заливающий небо краской стыда,
Душу мою неизменно в экстаз повергает,
И не наскучит глазам наблюдать никогда,
Как вечное чудо жизни себя повторяет[11].
Андреа слышала родной голос тети Вины, читающей стихи Амадо Нерво, и возвращалась в Сантьяго-де-лас-Вегас, точнее, на Агрономическую станцию. В ее воспоминаниях Агрономическая станция заменила собой весь Сантьяго-де-лас-Вегас. Ее излюбленное место, ее убежище. Ей словно необходимо бывало вспомнить, что не всегда жизнь была такой, как сейчас.
Вот она совсем еще девочка, десяти-одиннадцати лет, в Сантьяго-де-лас-Вегас. Она росла в окружении цветов и деревьев. Как все изменилось, детство среди цветов и деревьев — и эта старость на пустынном безобразном пляже. Отец Андреа был единственным зубным врачом в деревне, мать — его ассистенткой. Они держали два врачебных кабинета: в Сантьяго-де-лас-Вегас и в Вахае (в точности такие же, как тот, что был у них во время войны в Айбор-Сити[12]) — и открывали их поочередно: в понедельник, среду и пятницу принимали в Сантьяго, во вторник, четверг и субботу (с утра) — в Вахае. Они много работали, целыми днями. Поэтому Андреа оставалась, на свое счастье, на попечении тети Вины и проводила с ней большую часть времени.
У Андреа были две учительницы, которые приходили на дом. Рафаэла, учившая ее испанскому, географии и истории. И Бенигна, учившая правилам хорошего тона, вязать, рисовать, вышивать и готовить. И еще тетя Вина. Она тоже, на свой лад, была ее учительницей. Тетя Вина приходилась ей крестной и жила вместе с ними в доме, в котором самым важным местом был двор. Сам дом не обладал никакими достоинствами кроме того, что был продолжением огромного двора, в три раза превосходящего его размерами и засаженного деревьями, кустами и цветами стольких видов, сколько можно себе вообразить. В нем запросто можно было заплутать, бродя по узеньким дорожкам среди буйной растительности.
В середине этого небольшого леса стояла беседка, белая и светлая, без излишних украшений, в которую помещались только кресло и письменный стол. Каждое утро тетя Вина садилась рисовать цветы бутенвиллей, орхидей, имбирных лилий, молочая и ветки сосен, капустных деревьев или пачулей.
После обеда она шла и брала с собой Андреа в другой сад, на Центральную агрономическую станцию, занимавшую здание, которое много лет назад было построено для испанского военного госпиталя.
Центральная агрономическая станция находилась на въезде в поселок, на улице Гавана, в двух кварталах от обоих домов семьи Барро, жившей в узком проулке, перпендикулярном этой самой улице Гавана, которую называли, и справедливо, улицей гуацум, потому что вся улица была засажена гуацумами — обычными, желтыми и лошадиными.