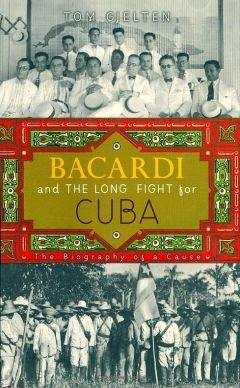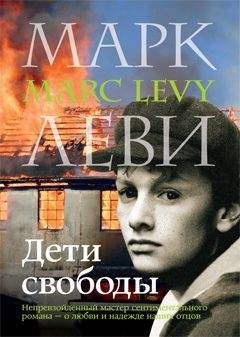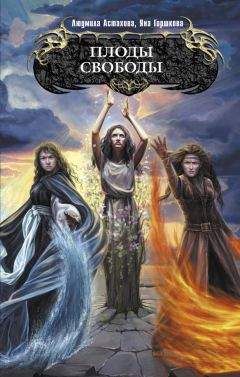Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
Полковник был упрям. Он хотел оставаться Полковником. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Такими, например, как сейчас, когда просыпались вьюрки. Если вьюрки просыпались, извещая, что что-то не в порядке, Полковник обходил весь дом. Это не было просто привычкой или стариковской блажью. После того как он накидывал на клетки покрывала, птицы не должны были просыпаться, и если они просыпались, то не просто так. Эти птицы были разумней людей.
Стараясь не шуметь, Полковник пошел к клеткам. Птицы не успокоятся, пока он не поговорит с ними, не скажет им, что он знает, что что-то не так, что-то случилось или случится, но он все уладит.
— Да, старина, эти чертовы птицы лучше, чем люди.
Не ленивые, не злые, не завистливые, не жестокие, они ели, гадили, летали и предупреждали, когда что-то было не в порядке. Иногда они спаривались, для наслаждения или продолжения рода, или для того и другого, но после спаривания не устраивали трагедий. Они не драматизировали. Не делали трагедий из физиологических отправлений и не называли «любовью» разновидность страдания. Они не умели страдать и не знали подлости, ревности, злопамятства, страсти, экспериментов. Никто из них не считал себя настолько лучше остальных, чтобы объявить себя епископом или самым верховным главнокомандующим, устраивать жизнь других, говорить им, что они должны или не должны делать, решать, что им нужно, вести их к некоему воображаемому лучшему будущему. Никто из них не говорил остальным: «Да вы просто не понимаете, насколько вы несчастны. Но я пришел, чтобы сделать вас счастливыми». Вьюрки были скромнее. Ни один из них не хотел переделать жизнь другого и стать для него спасителем. У них не было лидеров, апостолов или миссионеров. Есть, гадить, летать, совокупляться: вьюрки знали, что такое жизнь.
— Не о чем беспокоиться, ребятки, это просто циклон, всего лишь очередной циклон, если бы мы волновались из-за каждого циклона — хороши бы мы были! На этом треклятом острове если не один циклон, так другой. Или солнце палит, хуже чем циклон, не говоря уж о духоте, москитах и всем прочем. На этом острове нам всегда что-то угрожает, пора бы вам уже это знать. Но в доме мы в безопасности, это крепкий дом, построенный с умом.
Вьюрки, как будто понимали, потихоньку успокаивались. Полковник провел рукой по черным покрывалам и нежно скомандовал:
— А ну-ка спать.
Когда он вышел из «птичьей» комнаты, единственный звук, который слышался в доме, был вой ветра. Как вой волков. И еще скрип такелажа, как будто дом был пришвартованным к причалу парусником.
Лампа погасла, потому что в ней закончился керосин. Но Полковнику не нужна была лампа. Не было на свете места, которое бы он знал лучше, чем дом. И даже если бы его единственный глаз перестал видеть, он мог бы обойти его точно так же. И обнаружить любой непорядок или поломку. Ему помогали не только глаза, но и уши, нос, руки, сила и направление ветров, догадки и воспоминания, не зря же он так долго живет на свете и уже сорок три года в этом доме.
Он обошел не торопясь второй этаж и, прихрамывая, спустился по лестнице. Заглянул к курам и корове, которые теснились в бывшей уборной для прислуги. На кухне попил воды из-под крана (как делал его сын Эстебан) и налил себе немного кофе из термоса, в котором Мамина оставляла для него сладкое варево, не имеющее вкуса кофе, но все равно нужное ему, особенно по ночам. Пошарил по кухонному столу в поисках недокуренной сигареты, оставленной им там после обеда. Пожевал ее, но не зажег.
Когда Полковник вернулся в комнату, у него было ощущение, что там, снаружи, что-то происходит, что-то большее, чем приближающийся циклон. Впрочем, подумал он, не стоит особенно обращать внимание на предчувствия.
— Если Бога нет, значит, и предчувствий нет.
Годы изоляции и потрясений принесли ощущение того, что всегда что-то происходит, что катастрофа неизбежна, что в любую секунду на пляже или на всем острове можно ожидать чего-то более страшного, чем циклон. Катастрофы, которая сровняет с землей все. Вернее, то немногое, что еще оставалось.
Войдя в комнату, Полковник лег в кровать. Он знал, что не уснет. «Насколько все было бы иначе, если бы я не позволил Андреа себя уговорить, — подумал он. — Где, в каком раю мы бы сейчас были?»
Потому что где-то же должен быть рай. Если существует ад, и как раз в нем они находятся, должен быть где-то и рай.
ВЫСОКИЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ МУЖЧИНА
В ШЛЯПЕ-ПАНАМЕ
Поезд должен был отправиться через несколько минут. Станция была пустынна. Висенте де Пауль показалось, что кроме стрелочника там была только бродяжка и спавший на лавке пастух, тоже бродяжьего вида. Вместе с ней только четыре человека сели в поезд, и все четверо расположились в первом из пяти вагонов знаменитого поезда Флоридской прибрежной железной дороги.
На одном из первых мест Висента де Пауль увидела пожилую даму в фиолетовой шляпке с крошечными сиреневыми цветочками и с огромными чемоданами. Позади нее сидел нескладный юноша с белой, белее (если это возможно), чем у Висенты де Пауль, кожей и более веснушчатый (если это возможно), чем Висента де Пауль, со светлыми волосами, бессильно падавшими ему на лоб, на который были водружены большие очки с круглыми линзами. Юноша открыл тяжелую неудобную книгу в зеленой обложке. Ближе к центру вагона сидел мужчина лет шестидесяти, толстый, краснощекий, одетый во все черное и с лицом проповедника.
Висенту де Пауль (не ту, из поезда на Ки-Уэст, а эту, сидящую в своем кресле в доме на пляже) охватило волнение. Висента де Пауль из условного настоящего этой истории знала, что должно случиться с другой Висентой де Пауль, из условного прошлого, которая едет в поезде. В кресле, в своей комнате, через сорок два года после того дня и того путешествия, Висенту де Пауль в этот момент всегда охватывало волнение. Потому что теперь она знала то, чего не знала тогда. Она знала, что, как только прозвучит свисток начальника станции и поезд медленно, с усилием тронется, появится он.
Так и случилось.
Это был очень высокий мужчина, настолько высокий, что ему пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь. Кроме роста в глаза бросалась его изысканность. Утонченный, светский, в элегантном светло-сером костюме с крошечным значком в виде американского флага на лацкане пиджака и с соломенной шляпой-панамой в руках — такой щегольской, такой идеальной, что у Висенты де Пауль возникло ощущение, что она только тогда осознала впервые, что существует этот фасон шляп.
ТЕАТР «ОЛИМПИЯ»
Во времена доктора О’Рифи «птичью» комнату называли (иронично) театром «Олимпия» в честь первого театра, открывшегося на Бродвее и бывшего к тому же первым театром, который доктор посетил в своей жизни.
В маленькой комнатке, вход в которую был когда-то занавешен черными бархатными занавесями, американец любил собирать друзей на просмотр бесконечных фильмов, призванных увековечить его путешествия по миру. Каждое путешествие скрупулезно снималось на 16-миллиметровую камеру «Кодак», которую доктор, по его собственным словам, купил в Рочестере в 1928 году после поездки в Венецию, где у него не было с собой ни кино-, ни фотокамеры, что заставило его ощутить бессмысленность всякого «незапечатленного» путешествия.
Ни камера, ни проектор, ни экран, ни тем более пленки не сохранились. Никто из нынешних обитателей дома не знал, что стало со всеми этими предметами, которые они почитали бесценными. Осталось лишь несколько фотографий в ящиках небольшого изящного шкафчика работы Дункана Файфа[10]. И сохранились, потому что их сохранила Висента де Пауль в секрете ото всех, два куска пленки. Еще на прежнем месте, привинченное к деревянному полу, стояло одно из десяти велюровых кресел (уже без велюра и без пружин). В углу маленького зала были свалены предметы, ставшие ненужными реликвиями: два телефона-подсвечника фирмы «Келлог», Чикаго, модель 1920 года, и телевизор марки «Адмирал» 1953 года. Был там еще древний, покрытый пылью вентилятор фирмы «Вестингауз». Заросшая пылью этажерка с подшивками старых номеров «Эсквайра» и «Нэшнл географик». В другом углу — гигантская рождественская елка, когда-то чудесная, а сейчас превратившаяся в старый каркас из медной, покрывшейся ржавчиной проволоки, кое-где еще сохранившей остатки зеленого войлочного покрытия и красные шишечки на кончиках веток. На этом каркасе висело несколько клеток.
Клетки занимали и всю остававшуюся площадь комнаты. Шестнадцать клеток, служивших домом для двухсот сорока одного вьюрка.
Занавеси черного бархата были превращены в покрывала, которыми Полковник накрывал клетки, чтобы птицы заснули.
ЗАБРОШЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
Полковник лег, и Андреа знала это, как знала и то, о чем он думает и на что сетует. Она тоже на свой лад разбиралась в тонкостях и хитростях старого дома, в который их привела судьба. Если Полковник-Садовник жил в нем уже сорок три года, то и она не меньше того.