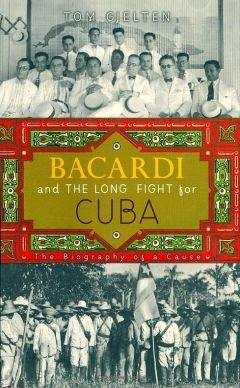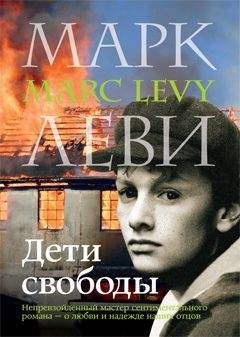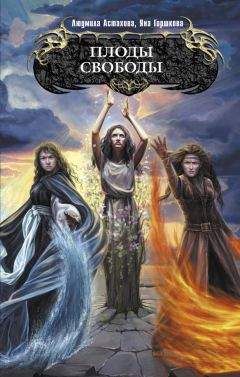Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
Вещи словно таяли, и сначала никто этого не замечал. Пропажи происходили без всяких магических ритуалов. Фокусы, задуманные каким-то сатанинским существом. Пропажи причиняли боль уже потом, когда их наконец замечали. Эксперимент с целью продемонстрировать, как человек может обходиться с каждым днем все меньшим. Эксперимент, конечно, для тех, кто его ставил, потому что у сатанинского фокусника наверняка текла из крана вода любой температуры и было все мыло мира.
Отец Полковника, старый Паскуаль Годинес, да будет земля ему пухом, опередил историю в тот день 1918 года, когда его черепичный заводик в Эль-Посито сгорел, и, глядя на обгоревшие развалины, он только и смог, что, пожав плечами, убежденно воскликнуть:
— Нечего жалеть, черт побери, жить — значит терять!
Его отец не знал, до какой степени на Кубе эта фраза станет верной. Впрочем, Полковник-Садовник его бы поправил. Он бы перефразировал его так:
— Революции совершаются для того, чтобы жить значило терять.
Он вышел из ванной, не замечая, что ворчит и спорит сам с собой. Он уже не отдавал себе отчета в том, что так стар, что спорит с тишиной.
— Интересно, циклон будет на всем паршивом острове или только на нашем паршивом пляже? Может, это и есть та кара, которую мы давно ждем, приговор, которого мы так долго добиваемся, пришествие тех самых четырех всадников[9], которых мы так страстно призывали? — Поразмыслив, он заключил: — Никакая это не кара, потому что Бога нет, а если даже и есть, то Его совершенно не волнует, что происходит здесь, внизу, или там, наверху, или где бы то ни было. А уж тем более на одном из тысяч и тысяч островов, рассыпанных по земле. Интересно, знает ли Бог, сколько островов Он бросил на произвол судьбы? Знает ли Бог, что среди этих островов есть один, который называется Куба? И почему, интересно, он называется Куба? Кому пришло в голову назвать остров словом, коверкающим название геометрической фигуры? И какое дело Богу, если Он где-нибудь существует, как называется этот остров и как живут кубинцы? Что мы, кубинцы, значим для Бога? Что мы, кубинцы, значим друг для друга и для кого-то третьего, будь то Бог или дьявол?
Полковник зашел в комнату и увидел, что окно, видимо плохо закрытое, открылось. Мелкий, бессильный, косой дождь залетал внутрь. Сопя, с трудом наклонившись, Полковник пощупал постель — не намокла ли. К счастью, постель была сухой. Он обул старые сапоги с обрезанными голенищами, которые служили ему шлепанцами, взял свою палку, которая служила ему для множества вещей, и направился к окну.
— Смотри, старина, — сказал он сам себе, — на море пятно света.
Как будто тучи вдруг расступились, и в отверстие просочился солнечный луч.
— Какой свет, старина, если сейчас час ночи, самое позднее три утра? Нет никакого солнца. Если оно и будет, то завтра. Если, конечно, солнце не исчезнет, как все вокруг. На море ночью не бывает света. Тем более в нынешние времена и в эти ночи, когда света нет ни на берегу, ни в домах. Этот свет всего лишь проделки твоего единственного глаза, старина, который тоже уже сдает. Больные глаза часто обманывают. В старости много призрачного. В старости на Кубе — вдвойне. Ты ослепнешь — вот что тебя ждет. И единственная надежда, что сердце решит остановиться раньше, чем перестанет видеть глаз. Что глаз и сердце придут в негодность, как душ, электрические провода, пляжи, дороги, надежды и хорошие привычки.
Сейчас, подумал Полковник, море выглядит гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. В этот час в преддверии циклона, который подошел еще не слишком близко, но обещал набрать невероятную силу, волны должны были бы достичь более метра в высоту. Гладь моря едва морщилась. Приближалось нечто страшное.
Ему показалось, что вдалеке он различает лодку. Фокусы его единственного глаза, уставшего и старого и уже не совсем здорового. Его глаза никогда не были совершенно здоровы, это правда. Была и другая правда: старость очень похожа на ночной кошмар.
— Если бы молодые знали, как заканчивается жизнь…
Где он услышал или прочел эту, или похожую, фразу?
На море не могло быть света. И лодки не могло быть. Сегодня море внушало больше ужаса, чем любая суша — будь то континент или всего лишь остров, — и это говорило о многом. Никакой храбрости не хватит, чтобы спустить лодку на эту воду, казавшуюся вулканической лавой, в эту мглу, то ли спускавшуюся с неба, то ли поднимавшуюся к нему.
Полковник закрыл окно. Плотно задвинул засов, чтобы оно больше не открылось. Доктор знал, что делал. Умный, образованный человек из Висконсина. Во время циклонов ни двери, ни окна в доме не нужно было заколачивать гвоздями.
— Андреа, ты когда-нибудь обращала внимание на то, что в этом доме никогда не нужно было заколачивать окна? — спросил Полковник.
Андреа была в соседней комнате и не спала (он это знал), но не ответила. Она прекрасно понимала, что это был вовсе не простой вопрос.
Комната Андреа была частью одной большой комнаты, разделенной тростниковой перегородкой. Они уже много лет спали порознь. Однажды ночью Андреа решила, что страдает бессонницей, что храп Полковника будит ее, едва она забывается в полусне. Врач, старый Луис де ла Калье (теперь он жил в Таллахасси), посоветовал ей, по крайней мере, так она сказала, спать одной, уверив ее, что так ей будет лучше. Как будто храп не проникал за тростниковую перегородку. Полковник знал, он всегда это знал, что бессонница была всего лишь предлогом. С самого первого дня он разгадал значение этого решения (разделить комнату тростниковой перегородкой). В глубине души он тоже обрадовался ему.
— Все проходит в этой жизни: годы, море, циклоны, хорошие и плохие времена, сама жизнь. Как же не пройти любви?
Свет так и не дали. Полковник взял лампу, которую оставил зажженной на тумбочке, и вышел из комнаты. Это был его долг как главы семьи. От этой ответственности его пока что не освободили Робеспьеры и Дантоны этих ужасных лет. Пока еще, хоть и на птичьих правах, существовали семьи. А если существовали семьи (недолго им оставалось), должны были существовать «главы семей». Эти «главы» еще покатятся с плеч, недаром возведены были новые гильотины. Но пока палач не занес нож…
Телом и душой Полковник уже чувствовал, что значит восемьдесят один год: примерно девятьсот семьдесят месяцев, или двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят с чем-то дней. Слишком много. В самый неожиданный день он, к счастью, не встанет с кровати. Ему еще остается шанс отомстить. Смерть станет способом посмеяться над злобным фокусником. Над мертвым нельзя ставить экспериментов. Все закончится. Все проходит в этой жизни: дни, месяцы, годы, море, циклоны, хорошие и плохие времена, фокусники с их фокусами и конечно же сама жизнь.
Пока что, в восемьдесят один год, с одним глазом, который видел миражи, и палкой, которая помогала сохранять равновесие и ходить по-человечески, Полковник продолжал рубить ветви, заготавливать уголь, доить спрятанную корову по имени Мамито, потому что пока еще он чувствовал себя в силах нарушать законы этой страны, в которой все стало противозаконным, даже доить корову. Или дышать. Он еще мог собирать яйца из-под кур и сажать помидоры, которые так близко к морю погибали, прежде чем прорасти. Он еще содержал в порядке угольный сарай и следил за тем, чтобы угля в доме хватало, а излишки его, которые хоть и непросто было продать, позволяли купить немного фруктов или овощей. Потому что если в доме не голодали, то только благодаря ему, кривому и хромому старику восьмидесяти одного года. Старый дом на пляже из благородного, привезенного из далеких лесов дерева держался. И это, в большой степени, была его заслуга. Дом, конечно, не был таким же, каким его оставил доктор. Время и жизнь крепко потрепали его, и дом был не таким, как раньше. Но почти таким, несмотря на то что последние восемнадцать лет прошли по острову как дорожный каток. Все закончилось. По другую сторону шоссе на Баракоа мало что осталось от того, что раньше было жизнью, если не счастливой, то, во всяком случае, приемлемой, какой и должна быть любая жизнь. Тот мир, все очертания того мира стерлись, словно он был акварельным рисунком, который нарочно оставили под дождем.
Полковник был упрям. Он хотел оставаться Полковником. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Такими, например, как сейчас, когда просыпались вьюрки. Если вьюрки просыпались, извещая, что что-то не в порядке, Полковник обходил весь дом. Это не было просто привычкой или стариковской блажью. После того как он накидывал на клетки покрывала, птицы не должны были просыпаться, и если они просыпались, то не просто так. Эти птицы были разумней людей.
Стараясь не шуметь, Полковник пошел к клеткам. Птицы не успокоятся, пока он не поговорит с ними, не скажет им, что он знает, что что-то не так, что-то случилось или случится, но он все уладит.