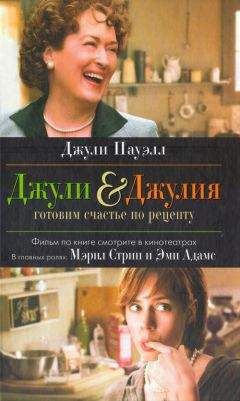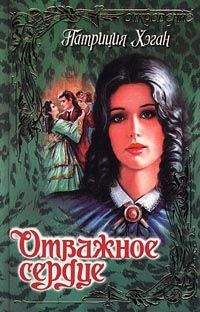Николай Веревочкин - Белая дыра
Старик окончательно заблудился в прошлом.
— Постой-ка. Да то вроде и не учитель был, а ссыльный. Учитель как бы не школу сжег? Да-а-а… Вот так живет человек, живет, а как помрет — вроде бы и не жил. Вроде его и не было, а так — один звук пустой. Вот, скажем, стоит могилка безымянная, а я уж и не помню, кто в ней лежит. Может быть, и Шайкин.
На кладбище Прокл заглянул мимоходом, по пути в заготзерно, откуда в райцентр должен был выехать молоковоз. От райцентра в город автобусы ходили чаще. Почти каждый день.
— Я бы тебя взял, — сказал водитель, интеллигентно сморкаясь в кепку, — только у меня уже пассажир есть. Бухгалтера в райцентр везу.
— А вдвоем не поместимся? — спросил Шайкин.
Водитель, чертами лица похожий на белого негра, посмотрел на него как на недоумка и неудержимо расхохотался.
— Ты что нашу Феклу Абдрашитовну не видел? Во, — раскинул он руки, — бедра шире коромысла. Не баба — Илья Муромец. Только что борода не растет. Я сам не знаю, как в кабину влезаю. Всю дорогу на одной половинке сижу и дверцу открытой держу. Того и гляди — на повороте вылетишь.
Водитель внимательно осмотрел габариты Прокла, почесал щетину на щеке и сказал, отвернувшись, задумчиво:
— Разве что в бочке…
— Там же молоко, — удивился Прокл, читая гордую надпись на его спине: «Просьба ноги не вытирать!»
— Молоко, — с сарказмом произнес водитель, — молоком там давно не пахло. От ферм одни бетонные ребра остались. Я уже года два, как корова мычит, не слышал. Прыгай, пока Фекла Абдрашитовна не видит.
— Да как-то того…
— Прыгай, прыгай. Дело привычное. Глухо, как в танке. Мы со свояком зайца частенько гоняем. Он из люка, гляди, по пояс высунется с ружьем, я — по газам — и по пашне, и по пашне. Причем ночью. И хоть бы синяк или, скажем, шишка. Правда, было дело, тряхнуло — он меня чуть не пристрелил. Видишь заплатка наварена на кабине? Так что не сомневайся — прыгай в бочку. Довезем с ветерком и скиснуть не успеешь.
— Сколько с меня?
— А сколько не жалко. Прыгай.
Никогда еще Прокл не ездил в цистерне молоковоза.
Темно. Гулко. Жестко. Пахнет железом и соляркой. А молоком действительно не пахнет.
Чтобы пассажир не задохнулся раньше времени, водитель оставил маленькую щель между люком и крышкой. В этот зазор с печальным, морозящим душу свистом врывался ветер. Жутко быть замурованным в гулкое железо. Страх замкнутого пространства, ожидание неизбежной аварии тревожат и томят. По местным дорогам и в автобусе трясет дай боже, а что говорить про цистерну. Болтается Прокл, как камешек в погремушке, и гулко матерится на особенно выдающихся неровностях.
Однако человек, особенно человек уставший от впечатлений, ко всему привыкает быстро. Положил Шайкин на рюкзак «Философские письма», а на них собственную голову, растопырил руки-ноги и, стиснув зубы, стал ждать конца пути.
А между тем до конца пути было еще далеко. Молоковоз, взревев танком, вполз на грейдер, высокий как китайская стена. И то-то бы удивился Прокл, увидев на указателе вместо Новостаровки Старонововку. Но из темного чрева цистерны ничего нельзя разглядеть.
Проснулся Прокл от тишины и холода. Тишина была особая, высасывающая душу. Сначала он подумал: ослеп, и сильно перепугался. Потом ему представилось, что его погребли заживо. Мысль эта не успокоила. Попытавшись встать, Прокл сильно ударился головой о железо, и полуоглушенный, разъяренный от боли, стал лихорадочно обшаривать руками тесное пространство. Еще немного и он бы сошел с ума, но тут под руки попалась книга. Шероховатая обложка напомнила ему события, предшествующие ужасному пробуждению. Он с облегчением вздохнул и вежливо постучал костяшками пальцев в гулкий бок цистерны. Не дождавшись ответа, замурованный в молоковозе забарабанил по железу что было сил ногами.
Послышались голоса, крышка отверзлась, и полость цистерны залил ослепительно яркий лунный свет. Казалось, до самого ночного светила протянулся живой, гудящий столб из комаров.
— Ё-ма-е! — склонившись над люком и разя перегаром, изумился водитель. — Слышь, Кабан, я ж про пассажира забыл. Вот смеху!
И нанес себе пощечину чудовищной силы. Распухшее лицо его было покрыто кровавыми пятнами раздавленных насекомых.
Но Проклу смешно не было.
Тьма комарих ворвалась в нутро цистерны и набросилась на него. Особенно неприятны были укусы в губы и в ладони. Как медведь из берлоги, затравленный собаками, выскочил он из железной бочки.
Молоковоз стоял на берегу то ли реки, то ли озера. Горел костер. Его блики бегали по мокрому боку резиновой лодки, стоящей на корме. Прислоненная к столбу без проводов, была она похожа на космический корабль пришельцев.
— Ну ты, блин, нас напугал, — сказал с осуждением незнакомый Проклу мужик, обликом похожий на Емельяна Пугачева. — Выпьешь?
— Не пью.
Незнакомец с водителем переглянулись и дружно рассмеялись, оценив юмор.
— Поди, бока все синие? — весело посочувствовал водитель. — Я ж по целине гнал.
— А где Фекла Абдрашитовна? — спросил Прокл, прячась от комаров в дымное и едкое облако.
— Так ты что, всю дорогу проспал? — удивился водитель.
— Набьем завтра цистерну карасями, — поделился планами с Проклом Емельян Пугачев, — его тут, как комара, — не сосчитать. На Крестовом лет десять как никто не рыбачил. Ну, будем! Меня Григорием зовут.
Прокл представился.
— Григорий такой человек, что его даже комары не кусают, — сказал с уважением водитель бензовоза.
— Отчего же они его не кусают? — скорее позавидовал, чем удивился Прокл.
— Боятся, наверное. Его все боятся. На него даже незнакомые собаки не тявкают. — охотно пояснил водитель. — Вот он человека зарежет, а ему ничего не будет. Справка у него есть — разрешается. Да ты не бойся. Он на природе не психует. Тихий он на природе.
Однако не всегда Григорий был тих и смирен на природе.
— Какая скотина битого стекла накидала?! — зарычал он на все озеро, тревожа чуткую дичь, и, доставши из-под себя окровавленный осколок бутылки, бросил его в костер. — Убью! Мало того, что все озеро железом закидали. Того и гляди как бы сети не изорвать. Прошлого дня сеялку и поймал…
— Видать, с зимы весь хлам завезли на лед, а весной он и растаял, — ласково разъяснил водитель. — Человек — он хуже свиньи. Как увидит красивое место, так его и обдрищет.
Чокнулись. Выпили, сморщились. Крякнули.
Мир стал уютней и загадочней. Освещенное луной пространство было дико и безлюдно. Такое у Прокла сложилось впечатление, что на всей Земле, кроме сидящих у костра, никого нет.
— Раньше-то мы все больше на Линевое ездили, — мрачно сказал Емельян Пугачев, — только с тех пор, как Кривенку свиньи съели, не ездим.
— А что случилось? — заинтересовался Прокл.
— Я же сказал — свиньи съели, — еще более мрачно ответил человек по прозвищу Кабан. — Долгая это история.
Кто такой Кривенко, Прокл не знал. Впрочем, он уже привык к мысли, что его Новостаровку населяют чужаки.
— Был он, конечно, долдон, но имел человек большую и светлую мечту, — встрял в разговор водитель, — Линевое приватизировать. «Куплю, — говорит, — Линевое, огорожу колючей проволокой и свиней запущу. Пусть, собаки, ряску жрут, поправляются и размножаются. А я время от времени буду их отлавливать и мясо на нефтепромыслы вывозить». С башкой был человек. Кумекал. И года не прошло — огородил-таки, скотина, Линевое колючей проволокой, как концлагерь. А озеро до свиней было зашибись. Рыбное. Берега крутые, лесистые, к воде не проберешься. Грибы, ягоды. Мальчишками уйдем на Линевое со спиннингами, а возвращаемся со щуками, груздями, обабками, вишней, смородиной, ежевикой… Велосипеды только скрипят. Не озеро — сказка ничейная.
— Одно свинство от твоей сказки и осталось, — хмыкнул Емельян Пугачев, разливая водку по стаканам.
В зрачках его горел адский огонь.
— Первое время мальчишки под проволокой пролазили, — продолжал рассказ водитель, красиво выпив и закусив, — но потом Кривенка двух волкодавов завел. Пацанов-то они расшугали, а со свиньями облом получился. Совсем озверели свиньи на воле. Были беленькие, вислоухие, а стали черными, как черти, и уши, как у овчарок, торчат. Идешь, бывало, вдоль колючки, а они, как зеки, из-за проволоки на тебя глядят. Облизываются. Короче, подрыли столбы и разбежались по окрестным лесам. Пшеница в тот год по плечи вымахала. В ней партизанить можно было. Пойди, найди их.
— А собаки? — спросил Прокл, живо представив одичавших свиней, вырвавшихся на свободу.
— Собак они еще за проволокой пожрали, — усмехнулся над неосведомленностью Прокла Григорий. — Загонят всей бандой на илистое мелководье, в озерную грязь, и рвут на клочки. Визгу, шерсти, вся вода красная. У них, видишь, на чистом воздухе инстинкты пробудились и клыки отросли.