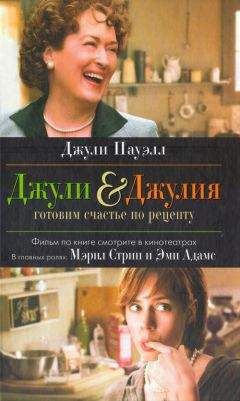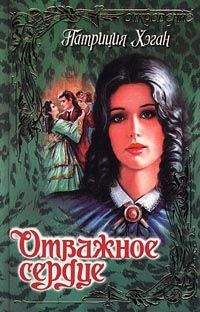Николай Веревочкин - Белая дыра

Обзор книги Николай Веревочкин - Белая дыра
Николай Веревочкин
Белая дыра
Вступительная заметка Чингиза Айтматова
В конце позапрошлого года впервые вручалась Русская премия. Напомню, что эта премия присуждается за лучшее произведение литературы, написанное на русском языке писателями из Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Мне выпала честь возглавлять жюри премии, тогда же я познакомился с замечательной повестью совершенно нового для меня автора из Казахстана Николая Веревочкина «Человек без имени». Эта представленная в рукописи повесть (ее журнальный вариант позже был напечатан в «Дружбе народов») произвела на меня столь сильное впечатление, что никаким колебаниям насчет премии просто не оставалось места. И, вручая ее тем декабрьским вечером в «Президент-отеле» лауреату, я подумал, что завидую тем любителям настоящей литературы, которым еще предстоит открыть для себя этого писателя.
Сейчас «Дружба народов» печатает новое сочинение Николая Веревочкина. Я его еще не читал, прочту, прочту уже в журнале — как рядовой читатель «ДН», но почти уверен, что оно не обманет моих ожиданий — столь крепкой, уверенной и оригинальной рукой было написано прежнее. И если это именно так, мне станет некому завидовать, разве что самому себе. Очень на это надеюсь.
Чингиз АйтматовЧАСТЬ 1
Преддырье
Озябшая, беспризорная душа, гонимая осенними вирусными ветрами, зацепилась за куст шиповника. Неряшливо проросший из-под останков брошенной сеялки, торчал он безобразно, как скандал.
Прозрачная, трепыхалась душа на краю чудом уцелевшего, многажды оскверненного человеком леска вблизи трассы, ведущей в большой, мрачный город. В истоптанном вдоль и поперек придорожном уголке не было тайны, ворожбы, а была лишь скука. Но в этот вечер красная листва осин и желтая берез, просвеченная холодным северным закатом, делала ее пронзительно красивой. Такая печальная, шокирующая красота всегда присутствует в смерти, точнее, в ее приграничной зоне, в момент прощания души с телом, когда труп уже тих, светел, но еще не остыл.
Человеческий глаз не способен различить слабое свечение одиноко кочующей души, но вороны, готовящиеся к ночлегу, видели ее и тревожили неуютное пригородное пространство криками. Взволнованный плач черных птиц летел над брошенным полем, поросшим бурым бурьяном до самого солнца. На рыхлой почве бурьян вымахал в рост человека. В его густоте невидимый с земли, лицом вниз лежал самоубийца. Раздробленный картечью висок был похож на ветку шиповника. Ствол ружья был еще теплым. Из черного отверстия дула смотрела сама вечность, пахнущая сквозняком и порохом, циничная в своей безнадежности. Порожняя бутылка с этикеткой «Пугасов мост», напротив, источала хмельной, веселый и легкомысленный запах жизни. Малоизвестный человечеству трезвый купец Пугасов с легким недоумением смотрел на шевеление белокурых волос покойника и ползающих по ним муравьев. Нарисованный человек как бы сомневался, следовало ли перед последней дорогой так основательно пить на посошок. Пьяным или трезвым лучше встречаться с вечностью? Хорошо ли на том свете, в раю ли, в аду ли, быть бесконечно хмельным? И так ли уж хорош напиток, названный его именем, если таки курок был нажат?
Ветер, внезапный и грустный, как вздох приближающейся ночи, зажег рощу шумным, густым пожаром листопада. В несколько минут деревья были раздеты догола, а красно-золотое облако пламени с черными головешками испуганного воронья полетело в сторону города. Вместе с этим шуршащим и галдящим облаком понесло изорванную о шипы нездешнюю душу.
Мохнатое, щекочущее, нашептывающее страхи и соблазны облако закружило прозрачную душу, било черными крыльями, пока не распалось: вороны взлетели вверх и, преодолевая ветер, вернулись к скелетам деревьев, а листья усыпали бурьян. И лишь прозрачный, бестелесный шар души летел на закат. Сейчас он был виден и казался бликом заходящего солнца.
Ночь безнадежья опускалась на землю.
Одинокая душа на промозглом ветру тосковала по теплому телу. Невидимая, летела она по пустынным, выметенным сырыми сквозняками улицам темного города, мимо тускло светящихся окон, избегая изломанных сучьев редких деревьев. Ее неудержимо тянуло к месту, где подолгу томились в ожидании множество осиротевших душ.
Это был роддом.
В последние годы люди умирали часто, а рождались редко. Души изнемогали в очередях и бросались всем скопом к каждому новорожденному. Порой в маленькое тельце втискивалось две, а то и три души. Они, ссорясь, набивались в младенца без прописки, как бомжи в подвал, обрекая новое существо на вечный разлад с самим собой.
Но была ночь, когда в многолюдном городе не появилось ни одного новорожденного.
Отчаявшиеся души зябли, набившись, как воробьи под застреху с подветренной стороны роддома. Душами были облеплены потолки и окна палат. Роддом был окутан облаком кочующих душ, и каждую минуту, гонимые тоской и ветром, к нему слетались все новые.
Душа самоубийцы потолкалась в облаке, но так и не пробилась даже к окнам роддома. Неосторожная, решилась она попытать счастья на свободной от угрюмых сестер стороне здания, но была сорвана и унесена гудящим ветром на окраину города. Здесь было особенно темно и тревожно. Ветхие дома сгрудились в тесноте, словно несколько деревень, сбежавших из грустных, продуваемых темными ветрами пространств, прижались к холодному боку надменного города.
Одинокая душа была встречена воем голодных собак. Она заметалась во враждебной черноте, царапаясь о штакетниковые ограды и заборы из плохо отесанного горбыля, путаясь в акациевых кустах, билась о закрученные на болты ставни. Мохнатое, дикое окружало ее, и тоска по теплому человеческому телу делалась непереносимой.
Она влетела в первую же открытую форточку. Стены сырой полуподвальной комнаты были густо и неряшливо заставлены поленницами книг. Они стояли на некрашеных, плохо оструганных досках, даже над дверным и оконным проемами. Часть из них лежала прямо на полу. И лишь на столе перед человеком не было ни одной книги. Стол был чист и пуст. На нем не было даже скатерти. Одинокий таракан рывками бегал по исцарапанным ножами, пахнущим некогда пролитыми борщами доскам в тщетных поисках хлебных крошек.
Глаза человека, пережившего последнюю надежду, не мигая, смотрели в космическую бездну ночного окна. В глазах не было ничего. Даже скуки.
Редкая удача: встретить в городе, где не родятся дети, человека без души. Пустое тело, ждущее завершения бесцельного существования. Это было неуютное вместилище — человек, переживший крах последней надежды и медленное умирание собственной души, — но выбирать было не из чего.
— На аукцион выставляется библиотека села Новостаровки, — скучным голосом объявил неопрятно лысый человек с обвислым лицом неврастеника.
Близоруко сощурившись, он брезгливо посмотрел в полумрак зала бывшего дома политпросвещения, а ныне бизнес-центра, где сладко подремывали в мягких креслах два господина — Мишка Хряк, в недавнем прошлом правый защитник заводской команды «Малолитражник», и левый крайний нападающий, любимец болельщиков, Прокл Шайкин.
Кличка — Мотоцикл без мотоциклиста.
Лысый человек грузно поворотился в сторону членов комиссии и что-то печально пробубнил, заслонив рот от микрофона ладонью. Ему передали бумажку. С усталостью только что плотно пообедавшего человека водрузив на нос очки, он тем же скучным неприятным голосом забормотал скороговоркой: «…Капитальное кирпичное здание площадью двести квадратных метров, построенное в 1984 году… Сто пятьдесят тысяч единиц книг… Центральное и аварийное печное отопление… Первоначальная цена 500 тысяч…»
— Моя родина, кстати, — наклонившись к уху Хряка, шепнул, зевая, Прокл.
— Да? Базара нет — покупай родину, — встрепенувшись, великодушно уступил ему лот Мишка.
— Да это я так, к слову. На хрена мне библиотека. И денег у меня таких нет.
— Не дрейфь! — ободрил его Хряк. — Торги по голландскому методу.
На этот странный аукцион Шайкин попал случайно. На заводе объявили отпуск без содержания, и он третий месяц шатался по улице Сейфуллина, переименованной народом в Бич-авеню, в поисках случайной работы. Безработные плотно стояли по обочинам, словно согнанные встречать правительственную делегацию или, наоборот, собираясь хоронить любимого вождя. Давно неметеная улица выглядела как чердак брошенного дома: деревья, каждое второе из которых мертво, припорошены пыльным инеем. Словно обмакнули их, как веники, в грязь и выставили просушиться. Серые дома, уныло сгорбленные фигуры людей, торгующих на разнос собственной рабочей силой. Безветрие, неподвижность. Если бы не сверкающие никелем машины, поднимающие пыльную поземку, можно было подумать, что город загипнотизирован и время остановилось. Так и подмывало зевнуть и умереть от скуки.