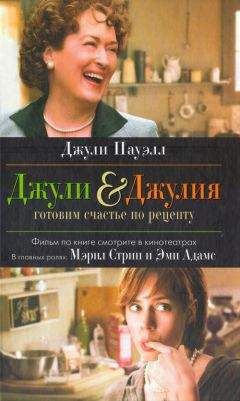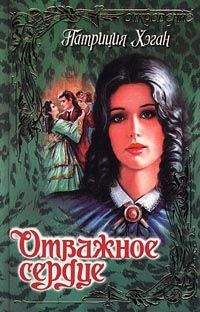Николай Веревочкин - Белая дыра
«Стоишь, как проститутка, — печально размышлял Прокл, пряча лицо в воротник куртки, — и ждешь, когда кто-нибудь на тебя позарится. Проституткам легче: у них весь товар на виду. А у тебя на морде не написано, какого ты разряда токарь. К тому же у проституток твердая такса, а тебя так и норовят поиметь по дешевке…
Прокл не любил улицу беззаботных, сытых клиентов проезжающих мимо. Но больше всего он не любил свое имя.
От него веяло проклятьем.
Он согласился бы на любое другое. Кроме, конечно, Онаний.
Что ни говори, а есть в именах своя магия. Если тебя назвали Горшком, рано или поздно посадят в печь. Имя, особенно редкое, судьба.
Кроме собственного имени Прокл не любил город — старый купеческий город с каменными, угрюмыми домами чужой эпохи. Он снимал комнату в одном из них. В бельэтаже. А говоря без затей по-русски, в полуподвале. Тоскливое это занятие — рассматривать из зарешеченного, всегда забрызганного окна нечищеную обувь прохожих. Тяжелые, потемневшие от дождей и грязи ставни завинчивались на ночь на болты. Дома погружались в темное прошлое. Из щелей струились запахи и шорохи столетней давности. Пахло квашеной капустой.
Впрочем, не многим лучше выглядели и микрорайоны, погожие друг на друга, как будни чиновника. В них тоже пахло квашеной капустой.
В этом запахе жила вечная, не умирающая душа старого города.
Квашеной капустой пахло даже на заводе, где Прокл когда-то собирал торпеды. Вообще-то до перестройки завод был засекречен и считалось, что он ничего сложнее стиральных машинок не выпускает. Короче, военная тайна, о которой знал весь город. Работа как работа. Единственно, что не нравилось, — дорога к ней: захламленный, потрескавшийся тротуар вдоль глухого железобетонного забора, сплошь изрисованного и описанного подростками. Творчество подрастающего поколения не позволяло надеяться на светлое завтра. Этот город, судя по надписям и рисункам, ждало беспросветно темное, маразматическое будущее. Другими словами, был Прокл мизантропом, не любил себя и свое окружение. Под окружением следует понимать как людей, так и среду обитания. От этой среды, как перегаром, разило скукой бесцельного существования и немотивированной враждебностью. Все молчаливо намекало, шептало, шелестело, гремело и орало — ты здесь чужак, зачем ты здесь? Человек, которого хотя бы раз освистал стадион, знает цену человеческой любви.
Прокл мог считать себя полным неудачником, если бы однажды ему не улыбнулась удача: девушка, которой он в пылу весенней горячки сделал предложение, отвергла его. До сих пор он вспоминает ее с благодарностью.
Единственно, что Прокл любил по-настоящему, — это тишина и покой одиночества. Мягкий свет настольной лампы. Заумь философского трактата. Или, лучше, технический справочник.
На досуге он в течение многих лет, не торопясь, мастерил металлоискатель. Этот аппарат по его замыслу должен был легко различать, что лежит под землей: железный болт, бронза, серебро или золото. О таком волшебном механизме он мечтал с первого класса, когда услышал от бабушки легенду о неждановских кладах. Так совпало, что вскоре в погребе он нашел золотую монету с двуглавым орлом. С тех пор темный пламень кладоискательства тайно сжигал его душу.
Прошло немало лет, и однажды он узнал, что металлоискатель, различающий едва ли не все элементы таблицы Менделеева, создан. Смутные намеки в научно-популярном журнале ускорили собственные разработки, и пришло время испытаний. Вечером с пятницы на субботу в любую погоду он уходил из города. На нем были старые, но крепкие ботинки на двойной вибраме, прочная немаркая одежда, в рюкзаке лежал туго свернутый кокон спального мешка, рассчитанный на тридцатиградусные морозы, и одноместная палатка, к рюкзаку привязан потертый рулон каремата. Прокла интересовали брошенные людьми места, пепелища, аулища — едва заметные холмы на месте жилищ. Зрелище, при наличии тумана, в такой же степени поэтическое, сколь и тоскливое. Сгоревшая деревня пожаров не боится.
Нельзя сказать, что первые трофеи — латунная пепельница, ржавые гвозди, ночной горшок, головка от примуса — окрылили его. Но в этих вылазках он нашел нечто, что очаровало его, — сладкую тоску безлюдья. При чистом небе он всегда спал на открытом воздухе. Нет в мире приятнее и тревожнее занятия, чем смотреть в полном одиночестве на звезды. Вот так лежать на каменном ли острове посредине шумящего переката, на свежесметанном ли стогу, в белом ли, сверкающем холодными алмазами сугробе или в березовом лесу под полупрозрачной кроной, лежать один на один со Вселенной и в полудреме смотреть на свою убогую родину — галактику, на сиротский свет ее одиноких окон.
Какая все-таки дыра наша вселенная.
Как печально и как хорошо. Легкие, невесомые, как осенние паутины, мысли летят сами по себе в этом темном, продутом сквозняками вечности просторе.
С некоторых пор Прокл стал разговаривать сам с собой. Точнее, ссориться. Причем голос, с которым он вступал в дискуссии, был чужим, насмешливым, если не сказать ехидным. Он высмеивал все, что было связано с Проклом: его образ жизни, поступки, но особенно мысли. И стоило задуматься, как появлялся он со своими желчными, иногда остроумными, но чаще просто злыми комментариями: «И это человек, творение твое, Господи? Какое разочарование!».
Если бы кто сумел подслушать мысли мрачного человека, то был бы удивлен, насколько он любит и жалеет людей. Впрочем, есть, видимо, такой закон: человек, который не любит себя, обычно хороший человек. Трудно сформулировать парадоксальные мысли. Получается коряво, непонятно и оскорбительно для большинства. Прокл размышлял о взаимоотношениях человека с остальной частью природы. Вариант за вариантом продумывал он способы жизни, стараясь найти такой, при котором можно было бы чувствовать себя свободным существом и при этом не наносить ущерб живущим рядом зверью и безгласным растениям. Но всякий раз из мрака подсознания, сквозь шумы в голове до него доносилось хмыкание чужого голоса. Этот зануда мог не давать о себе знать неделями, но — стоило подумать о чем-нибудь душевном — он был тут как тут. Найти гармоничный вариант сосуществования человека с остальным миром было чрезвычайно сложно. Человек — хищник. Он живет неумеренным хищением с тех пор, как похитил огонь у богов. Чтобы построить себе жилище, добыть свет, тепло, пищу, необходимо ограбить природу. Даже счастье в человеческом понимании — это поздравление охотнику на мамонта при получении своего куска мяса — «С частью!». Дело даже не в человеке. Жизнь — это взаимохищение. В природе альтруистов нет. Прокл блуждал в лабиринте и выбирался из тупика только затем, чтобы попасть в очередной тупик. Из этого лабиринта не было выхода. Стоило войти в него, как замуровывался и вход. В конце концов, все, что создано, создается и будет создано человеком, предназначено уничтожению. И хорошее, и плохое — все будет принесено в жертву божеству по имени Ничто. И эта бессмысленность существования делала абсурдной не то чтобы борьбу за справедливость, но даже и обличение человеческих пороков. Вот отчего мудрые ограничивались созерцанием.
Чужой голос был желчным циником, а Прокл не любил насмешек над собой. Но в этом случае дело осложнялось тем, что от них не было никакой возможности спрятаться в себя. Именно там и поджидал его ворчливый, остроумный паук, расставивший сети для чистой прокловской души. Бдительным цензором в высокомерном презрении ковырялся чужак в мыслях Прокла. Находя что-то чистое, детское, фыркал в недоумении и яростно вычеркивал. Всякий раз, когда Прокл пытался вывести вражеский голос на чистую воду, он прятался в потемках его собственной души. Чужая душа самоубийцы в короткое время избавила Прокла от тайного порока — писания стихов. Жить стало скучнее, но проще, хотя жизнь подтверждала самые мрачные прогнозы.
Он жил в стране, где сдерживание хищнических инстинктов было государственной политикой. И когда эта страна развалилась, он увидел в согражданах то, что многие не видели или старались не замечать, — хищников и травоядных, выпущенных из клетки. Он понял лукавство, заключенное в святых словах. Свобода означала лишь право на хищение, право съесть или быть съеденным — и ничего более.
Это смутное время ударило в первую очередь по ВПК. Завод, было, и в самом деле попытался перейти на выпуск стиральных машинок, но не выдержал конкуренции: его стиральные машинки отчего-то взрывались. Тогда Прокл еще не слышал в себе чужой голос и предложил главному инженеру запустить в производство свой металлоискатель. Инженер чертежи взял, похмыкал, почесал тыкву, но ничего не сказал, а вскоре уехал на историческую родину. А чертежи в суматохе переезда не вернул. Историческая родина. Странное понятие для человека, знающего, что все мы — выходцы из Африки, в разной степени выцветшие негры. Если заглянуть во тьму веков, с ума сойти, сколько этих исторических родин было у каждого. У человека одна историческая родина — наша общая, крохотная планетка. Ну, да хрен с ними, с политиками.