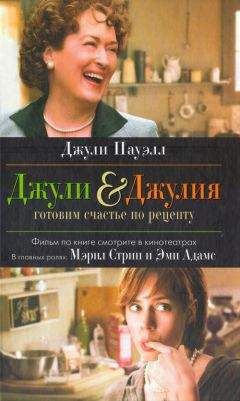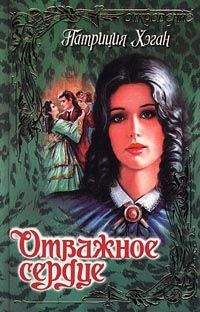Николай Веревочкин - Белая дыра
Муж Людмилы Проклу не понравился.
Тело его стремилось к совершенству — к форме шара.
Он был всем доволен: женой, внутренним и внешним положением страны, реформами и собой.
— Это ты брось — разруха, бедность… Кто хочет жить, тот живет, — говорил он, сопя и чавкая, — ты-то, я вижу, не бедствуешь, если библиотеки покупаешь.
— Не о нас речь. Как жить, если работы нет, — возражал Прокл.
— Нет и не надо. Кто тебе мешает скупить скот. Корову за мешок сахара отдают. Скупил, вывез в Тюмень и продал за хорошую цену. Граница рядом. Граница прозрачная.
— Ну, если все начнут скупать скот, скота не хватит.
— Я этих проблем не понимаю. Мужик для того и создан, чтобы прокормить семью. Так? Нет работы — найди. Не нашел — укради. А если ты не можешь прокормить семью, какой же ты мужик.
Прокл не имел ничего против взглядов и внешнего вида Григория. Ему было просто неприятно, что этот человек — муж Людмилы.
К тому же, в отличие от Прокла, Григорий не был сторонником раздельного питания. В желудке его переваривались две глубокие тарелки борща с кусками жирного свиного мяса, около сотни пельменей, среди которых один — счастливый, пять долек чеснока, полбулки ржаного хлеба, несколько ломтиков свиного сала, совковая лопата гречневой каши, шесть яиц, кусок пирога с картошкой и щукой, луковица. Все это было пропитано полукилограммом домашнего самогона и залито сверху тремя стаканами чая, настоянного на лечебных травах.
— Ну, вот и заморили червячка, — гулко хлопнул Григорий тяжелыми ладонями по собственному животу, который начинался едва ли не от подбородка. Точнее, от нижнего из четырех. В животе, плотно набитом свежей пищей и навозом прошлых трапез, зажурчало, зачавкало и забулькало. В нем шли какие-то болотные процессы. Григорий тяжело и часто сопел. Порой тело его сотрясала отрыжка. С любовью и нежным одобрением смотрела на мужа красавица библиотекарша, со всем соглашаясь с ним, готовая по первому намеку принести очередное блюдо.
Между тем хозяин дома говорил Проклу со снисходительной усмешкой:
— Что это за мужик, который пальчиком в тарелке ковыряется — это ему можно, а это нельзя. Не мужик, а баба какая-то. Мужик что подадут, то и съест. Я таких мужиков, которые ковыряются, не люблю.
От него пахло чесноком, самогоном, парным мясом и сладким навозом. Под мышками было темно от жаркой влаги. Пятна испарины выступили на спине, животе и в паху. Круглое, розовое лицо взволдырилось бисером пота. Крупные, сверкающие капли сплошь покрывали лоб и бритую голову. Они сливались и, достигнув критической массы, стекали за расстегнутый ворот рубахи, а на их месте тут же взбухали новые градины.
— Ну, это личное дело каждого, что есть, что пить и сколько, — сказал Прокл, миролюбиво раскрывая ладони и пожимая плечами. — Один любит помои. На здоровье. Другой вообще ничего не ест. Дело личное. Не вижу, о чем здесь спорить.
— Настоящий мужик должен есть и пить все, что подадут, — настаивал Григорий, — а то не мужик, а глиста какая-то.
— Ну, — возразил Прокл менее миролюбиво, — настоящий мужик, пообедав, должен быть в состоянии пробежать хотя бы километров десять, переколоть кучу дров или вскопать огород, а не давить клопов на диване и молоть чушь.
— А давай так, — отвалился на спинку дивана Григорий, — ты мне шалабан, а я тебе шалабан. Ручаюсь — твою башку придется искать за околицей.
Он опростал алюминиевую тарелку от хлеба, перевернул. Плотно приложив к ней правую руку и оттянув средний палец, гулко щелкнул по дну. С гордостью продемонстрировав вмятину, деревенский Гаргантюа с веселым презрением подмигнул Проклу.
— Давай лучше, кто больше дров переколет, — с сарказмом посмотрел Прокл на нежное, как девичья грудь, брюхо хозяина.
— Переколоты.
— Григорий, ну ты прямо как маленький, — вмешалась в разговор библиотекарша, — ты бы еще на руках давиться предложил. Он у нас как только выпьет, так со всеми на руках давится.
Прокл расчистил от чашек место на столе, твердо поставил локоть и протянул раскрытую ладонь Григорию. Хозяин посмотрел на бицепсы гостя и искренне рассмеялся. Даже пукнул слегка от неудержимого веселья.
— На что давимся?
— Да хоть на что, — ответил Прокл, сощурив глаза.
— С тобой хоть на жену.
— Согласен, — мрачно ухмыльнулся Прокл.
Рука у Григория, что нога у Прокла.
Стали давиться.
Прокл своей жилистой клешней — раз! — и положил хозяина.
— Так не считается, — удивился Григорий.
Стали давиться во второй раз.
Чтобы не было споров, Прокл отсчитал про себя до тридцати и снова уложил. Да так, что у Григория в плече хрустнуло.
— Вот тебе совет, Толстый, никогда не спорь на жену, — сказал Прокл вставая из-за стола.
И, не прощаясь, вышел.
Ничего не напоминало Проклу прежнюю Новостаровку. Единственно, что в ней не изменилось, так это кладбище.
Здесь почти не чувствовался ветер. Он гудел где-то вверху кладбищенской рощи, а внизу, у могил, царил такой покой, что Прокл чувствовал себя утопленником на дне озера времени.
Где-то там, над гудящими вершинами тополей, продолжается суматошная, нелепая, сумбурная жизнь, а здесь, среди деревянных крестов и железных звезд, царила безмятежная неподвижность музея, архив отшумевшего прошлого. Он шел по старой части кладбища, где деревья были заметно выше и гуще, а могилы приобрели естественный природный вид. Долгая печаль постепенно трансформировалась в безымянную грусть, а та в свою очередь — в философскую умиротворенность. Прокл всматривался в покосившиеся, растрескавшиеся и потемневшие от времени кресты, пытаясь обнаружить знакомые фамилии. Но на многих из них уже нельзя было прочесть ничего. Это были просто кресты над могилами ушедших поколений. Прокл подумал о смерти, которая превращает миллионы людей в одного безымянного человека. Это была смутная, трудно формулируемая и тревожная мысль. Пласт народа ложится в землю, постепенно обезличиваясь, превращаясь в общий прах. Остаются имена, но они не принадлежат уже отдельным людям, это имена одного общего, бесследно исчезнувшего существа — святого и грешного, гениального и бездарного, совершившего великие подвиги и великие мерзости. Имя человека, уже ничего не говорящее, живет какое-то время на кресте или наспех сваренной из железа тумбочке, но потом и оно исчезает. И было странно, как люди, живущие ныне, не осознают себя единым многоликим существом, листьями одного дерева.
Из сумрака берез и могил навстречу Проклу вышел маленький старичок в очках с круглой оправой, делающих его похожим на старую сову. Седая борода отдавала зеленью. На голове не по сезону шапка-ушанка с надорванным ухом. На ногах самокатные пимы. Он шел, суетливо обшаривая глазами землю под ногами, разгребая траву тальниковой, очищенной от коры палочкой. Вот он издал птичий крик восторга и, кряхтя, опустился на колени. Из кармана фуфайки, перетянутой солдатским ремнем, он вынул нож-складешок и срезал маленький обабок. Посмотрел срез ножки — не червивый ли? — и положил гриб в лукошко. Кряхтя, поднялся и на мгновенье опешил, встретившись глазами с незнакомым человеком.
— До лесу-то далеко, — объяснил он, застеснявшись, — а я страсть как люблю грибы собирать. Бывало, выйдешь поутру в посадки, а там этих маслят больше, чем комаров. И все молоденькие, тверденькие, сопливенькие. Да нынче год выдался неурожайный. Только здесь и встретишь грибочки. Бабка моя брезгует их есть. Поглядите на нее — прынцесса Диана. Того не понимает, что по костям ходим, на костях живем. Вся земля — одно кладбище. А покойнички на меня не обижаются. С чего им на меня обижаться? Все мои товарищи здеся лежат, меня дожидаются. Вот там Зайцев Афанасий, Оглоблей звали. Возле его могилки завсегда белые грибочки растут. Мы с ним за одной девкой ухаживали. Да вот и она лежит. Именем Матрена. Огонь-девка, всей Новостаровке голову кружила, веретено. А растут возле нее только коровники. Почему так? Не знаю. Бабка моя стращает: и не стыдно тебе к покойникам по грибы ходить? Того, дура, не понимает, что я себя уже давно в покойниках числю. А ты здесь кого ищешь? Или так — природой любуешься?
— Шайкиных.
— Шайкиных? Не припомню. Вроде бы все могилки наизусть знаю. Погоди-ка… Шайкины, Шайкины… В Неждановке Шайкины жили, — дед ткнул своей оструганной палочкой куда-то в неопределенность и пояснил: — деревушка такая лесная. Да уж и не знаю, стоит ли еще. Говорят, и дорога осиной поросла. Раньше столбы туда вели, гудели. Потом провода с них сняли. По всему району столбы без проводов стоят. Нашлась умная душа — неждановские столбы поспиливала. Столбы-то сосновые, ровные, как спички. Шайкины, Шайкины… А может быть, и Шашкины. Уж не тот ли это учитель, что жену свою топором зарубил?
Старик окончательно заблудился в прошлом.