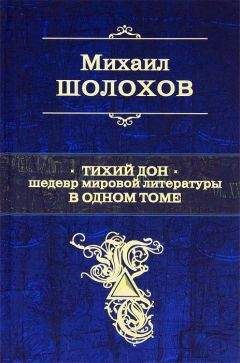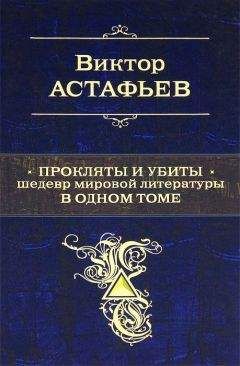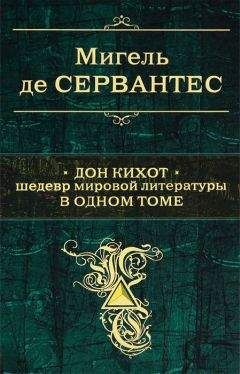Валерий Пудов - Приключения Трупа
Кладбищенские кивали на могилу у края:
— Ваш — не большая птица, а старый потеснится.
Но гости от нищенского дара входили в раж:
— Охвостье — не в жилу! Старый — наш!
И совершали в запале злой бросок — брали на абордаж чужой кусок, сами намечали пятачок у входа, где образцово лежали кости не простого народа, и в труде забывали о вражде: сбивали ломами ограду, выдирали рассаду, снимали плиты из гранита, вырывали гнилой гроб, швыряли к краю участка и, угрожая свинчаткой, наставляли:
— Дорогой землекоп! Чтоб зарыл под настил сразу, без промедления, где указано — на подселение.
И так, без драк, получали для обиженного нечестно — престижное место.
Шалость — безразмерная, но средство оказалось — верное: волею-неволею под пристанище для неподвижного пилигрима освобождалась и половина кладбища, и более.
5.От многолюдности вызывали трудности и гробы.
Вначале выбирали для мятежного героя дорогое изделие, нежное, как розы и камелии. Величаво отвергали дубы — неприятны и грубы. Браковали из сосны — не ароматны и грустны. Топтали из трухлявой березы — не опрятны и не прочны в морозы.
Замечали мастерам-продавцам:
— Вам торговать рядами, а ему — лежать одному годами. Кровать — не под срам: отдыхать без дам. Тут подойдут не блеск и треск, не писк и визг, а уют и храм!
Иные мастеровые поднимали крик из-за раздолья упаковки и дышали горячо, как судьи на переподготовке:
— Полковник — из трущоб: к тесноте и бедноте привык. А коли гроб велик, будет еще покойник!
Но им отвечали: «Поглядим» — и искали для нашивки и обивки ткань, и не рвань из кумача, а особую, без брака, чтобы сказали: «Не дрянь, а парча!»
Однако верные пророчества искореняли новшества.
Из-за нехватки древесины для укладки получали распространение безразмерные домовины — на подселение.
Внедряли и почасовой прокат тары — такой расклад товара обещал мертвецам охват, а дельцам — капитал.
Сбывали и кули из рогожи (для земли, шептали, гожи), и тряпичные мешки (уверяли, отличные и вальяжные), и бумажные пакеты (намекали, что это — вершки этикета).
Но злобный народ на подобный оборот дел галдел:
— Ящик теперь — не уютное для смердящих обиталище, а минутная дверь в неукутанное пристанище.
От жажды гробостроения возникали и волнения.
Однажды на магистрали дважды прокричали:
— Больше дубов для мощных гробов!
И естественно, как ком снега набухал в сугроб, одиозный гроб встал вереницей, образовал общественный тромб и обещал провал там, где, как говорится, кругом — нега, а под сукном — хлам, где село заселено, но петухи не поют, где люди — глухи, но и в воде не встают, а в груде текут и текут в пруд.
То же или похожее назревало и с прочими причиндалами и рабочими материалами, которых в конторах не доставало: с венками и букетами, кирками и портретами, топорами и лентами, лейками и наклейками.
И дефицит стал немал, побеждал стыд, вызывал скандал, а уж шествие для приветствия генерала обещало бедствие.
6.В день всеобщего захоронения Трупа тощая группа удальцов навела тень возмущения на умиротворение мертвецов: имя покойника подняла, как знамя разбойника, и с пустыми гробами прошла городскими площадями и трассами, как стрела — в мясо.
Словно с тыла напустила поголовно лассо, навострила рыла, наточила лясы и перекусила жилы постылым прикрасам.
Было ясно, а штормило — потрясно.
Громилы, ошарашенные вязью пыли, заварили крутую кашу: облили мостовую грязью из параши, подавили автомобили, разворотили тумбы, клумбы превратили в цветную пашню и страшно разбомбили башню.
Безобразные подвиги вершили под разные лозунги:
— Засилье трупа допустили глупо!
— Чтоб лечь в ночь, гроб с плеч прочь!
— Для дохляков кров — не кладбище, а пожарище!
— Нам — срам, а дубарям — храм?
— Надоела жизнь трущоб — ложись смело в гроб!
Протесты разъясняли на местном материале.
Отвергали мистику и привлекали статистику:
— Жильцы бездомны и безземельны — стократ огольцы. А мертвецы неуёмны: норовят в удельные дворцы!
Предлагали зевакам лечь в гроб на минутку, как собакам — в будку, чтоб лично испытать неприличную гладь и комфорт ханыг, и речь превращали в крик:
— Для них — форт, а для живых — фиг!
Бушевали крикуны — будто наутро ждали войны.
И подобные проказы дали метастазы.
Сразу побежали по дорогам, площадям и логам злобные манифестации: нападали на сонные уголки, чесали ощерённые клыки и, как быки рогом, поднимали понемногу то там, то тут — то бунт, то грунт.
Но в раже не наломали даже дров для гробов.
И на ситуацию — не повлияли.
Огромные демонстрации поклонников покойника ровными колоннами смяли провокацию.
Топтали под гуд труб и стук в зуб.
И под зуд рук водружали знамя:
«Труп — с нами!»
XXXIII. В КАТАФАЛКЕ — К СВАЛКЕ
В один назначенный день и час население деревень и городов стряхнуло озадаченную лень и, как акула из глубин — на баркас, враз сигануло от трудов и утомления в нерастраченный экстаз захоронения.
Пока соборовали мертвяка, взяли отпуска по поводу печали, и радости было в стане провожающих — что мыла в бане, лающих от жадности — на псарне и солода на пивоварне.
Проводы Трупа в безысходный путь стали для народной морали — что сладости с коньяком, ложка модного супа, плошка холодной окрошки, тугая грудь с молоком и другая дорогая кормёжка для одного голодного или его кошки.
Плакаты и знамёна стояли на перекрёстках, как солдаты — подростки — у трона.
Шары детворы и фейерверки из канонерки нависали на магистрали дождём, как дирижабли — на танки, грабли — на делянки и коноплянки — над гнездом.
Солнце мило светило в оконца, и овал света подтверждал лето, а раздольный колокольный звон со всех сторон предрекал успех похорон.
Девушки пели в хоре, свиристели — в лесу, а денежки звенели на весу, как свирели.
На столбах и дубах сидели ребята, ели колбасу и неустанно галдели, споря о деревянном дедушкином уборе и волосатом проборе, а в воздухе висели ароматы, богатые, как на отдыхе у моря.
Кавалькада машин с включёнными фарами сплочёнными парами ползла по автострадам, и возглавлял карнавал лимузин от начальства, а замыкал караван фургон из санчасти.
2.Сам генерал или полковник, похожий на дрофу, лежал в гробу строже бая, не мигая по сторонам и не пеняя на судьбу, как уполовник в шкафу.
В нише на крыше катафалка помпезно восседала галка: любезно разевала рот, отдавала поклоны и протяжно, как повторяла считалку или жевала макароны, провозглашала начало ритуала и каждый поворот колонны.
В тех местах, где галок не хватало, шествие пробегало на всех парах, но и впопыхах не допускало в череде завала, предотвращало бедствия и не теряло благочестия.
А где не доставало катафалков, галку с лихвой заменял постовой:
— Стой! — кричал. — Генерал — с передовой! Свой!
И подвывал, как лесоруб:
— Ого-го-го!
И Труп проплывал вальяжно, и каждый признавал его за своего.
Но и других кандидатов в него везли не хуже того: заслуженных бюрократов — красиво, как корабли по водам залива, а простых, из народа, по доходам — кого в автомобиле или на санях, а кого волочили и на простынях, рожей по бездорожью, но за те неудобства в ритуале получали превосходство в простоте обихода и наготе, с какой природа на покой провожала клёклого урода, далёкого от высокого идеала.
И все передвижения мотало от увеселения, как провинциала от чарки — на колесе обозрения в парке.
Головой отряда повсюду управляли грёзы, преграды сметали попы, путь любой стопы на погост украшали причуды и устилали шипы и розы, но метаморфозы магистрали ничуть не влияли, хоть и виляли, как в одеяле клопы, на рост, хвост и плоть толпы.
Оркестры играли повсеместно. В ресторанах не выгоняли пьяных. Бюрократам салютовали троекратно.
Почести убеждали в высочестве!
3.Но скандалы не миновали и карнавала.
Сначала затоптали неосторожного прохожего.
Застряли дольше положенного.
Переживали горше возможного.
Объясняли без затей, что юбилей тем и веселей, чем страшней:
— Дали в торец и — не жилец!
— Прибавляли газу, попали в фазу и зажали пролазу!
Наконец заорали, как объявляли кару:
— Затоптанного — на базу, к юбиляру!
И сразу, без проб, упаковали попранного в гроб, к командарму в пару.
Потом утрамбовали колесом другого.
Повздыхали сурово на шальную обнову, поискали причину, покивали на машину, поплевали в трясину, признали всеведущую судьбину и втихую затолкали мясную мякину в следующую домовину.
Затем — совсем давка: гроб с двумя невесёлыми новоселами не удержали стоймя наверху и троих особ из неродных раздавили, как бородавку, рептилию и блоху.