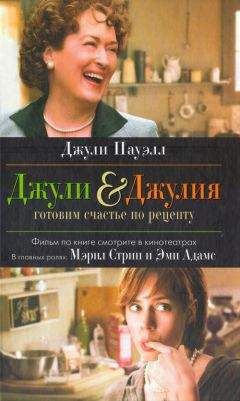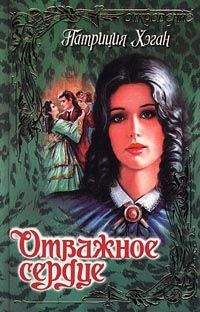Николай Веревочкин - Белая дыра
— Не на месте, не ндравится мне, — поджала губы упрямая Шлычиха, — хочу здесь сарайку.
— Чего ж ты молчала? Сделал бы я тебе сарайку.
— У меня самой не первая голова на плечах, — гордо ответила кума без ума и, отвернувшись, вновь принялась за свое варварское дело.
Закипело в душе Охломоныча и в мозгу заклинило. Но нашел бы он, конечно, нужные слова, чтобы поставить дуру-бабу на место, однако внутренний голос опередил его.
«Что, благодетель, задело? Зацепило?» — спросил он, не поймешь — то ли с сочувствием, то ли с ехидцей.
— Тьфу ты! — махнул рукой Охломоныч и пошел прочь в такой досаде, что предусмотрительный Полуунтя на всякий случай отбежал от него на безопасное расстояние.
Когда Охломоныч сильно сердился или обижался на кого-то, он находил укромное место, закрывал глаза на печальную действительность и начинал мысленно строить дом — с фундамента под конек. Причем строил основательно, последовательно, подробно, не пропуская ни одной самой малой детали и операции — ни одного гвоздя, ни одного удара топора, ни одной щепки.
На этот раз Охломоныч, спрятавшись в светлой беседке на берегу Глубокого, сидел очень долго. Если бы человеческие мысли могли быть озвучены, то над Новостаровкой стоял бы визг пил, шорох рубанков, стук топоров и свежий, искренний, как майская гроза, мат человека, стукнувшего себя молотком по пальцу. Обычно, когда дом выводился под крышу, злость и обида проходили. Однако после встречи со Шлычихой Охломоныч построил уже два дома, уделив особое внимание отделке, принялся за третий, но дура-баба, как живая, стояла перед глазами, неутомимо круша узоры ограды. Ржавый лом будто по башке долбил. И под каждый удар у Охломоныча дергался глаз.
Полуунтя расположился на отшибе. Дремал, положив лохматую морду на лапы и лишь изредка приоткрывал один глаз, чтобы убедиться: хозяин на месте, никто его не украл.
«Сделал добро — брось в реку. Даренное тобой уже не твое, — сочувственно вклинился в бурное мысленное строительство внутренний голос. — Забор-то теперь Шлычихин. Дарить — так до конца. Подарил и забудь».
— Так ведь красоту губит вздорная баба, а красота — она всеобщая, новостаровская, а не Шлычихина. На красоту разве есть право собственности?
«У каждого свои понятия о красоте, — возразил внутренний голос и не утерпел, уколол. — Сам-то ты ко мне часто прислушиваешься?»
— А кто ты такой, чтобы к тебе прислушиваться? — взбунтовался Охломоныч, перенося часть обиды на внутренний голос.
«Я — ангел», — скромно ответил тот.
— А я — херувим, — в свою очередь представился Охломоныч.
«Ангел — значит вестник», — смиренно пояснил голос.
— Вестник?
«Ну да. Тот, кто приносит весть».
— Почтальон, что ли?
«Ладно, достраивай свои дома», — слегка обиделась чужая душа и замолчала до поры.
— Добрый день!
— Чего это ты подкрадываешься? — вздрогнул Охломоныч, внезапно увидев перед собой тишайшего Фому Игуаныча.
— Я не подкрадываюсь, — застеснялся тот, — я с тобой уже третий раз здороваюсь, а ты все сам с собой разговариваешь.
— Почему бы и не поговорить с умным человеком.
— Да я разве против. Я тоже сам с собой поговорить люблю. Радость у меня, Охломоныч, — печально сказал Игуаныч.
— Чего такое? — испугался Охломоныч.
Игуаныч вздохнул и сказал, как мешок с картошкой на плечи взвалил:
— Жена вернулась.
— Это хорошо, — грустно разделил чужую радость Охломоныч, — сейчас все возвращаются.
— Охломоныч, — застеснялся Фома, — ты обещал к первому сентябрю новую школу построить…
— Раз обещал, значит, построил, — ответил внушительно новостаровский демиург. — Охломоныч пустых слов не говорит. Охломоныч слово держит. Сделал — и бросил в реку. Пользуйтесь как хотите.
— Это конечно. А где же школа?
Махнул Охломоныч рукой, приглашая за собой, и пошагал, шаркая подошвами, к Глубокому. У самой кромки воды — что-то вроде автобусной остановки торчит. Пузырь из стекла. Подошли — широко раздвинулись полупрозрачные двери, и открылся светлый туннель на дно озера.
Удивился Игуаныч, однако смолчал, пошел следом за Охломонычем.
Идет, оглядывается. Водоросли в восточном танце извиваются. Окуни и другие рыбы в прозрачные своды носами тычутся. Есть, наряду с местными язями, карасями, и незнакомые. Видать, Охломоныч мимоходом постарался — размножил рыбье поголовье — тут тебе и сиговые, тут тебе и зеркальные карпы, размером с годовалую свинью. Так золотом да серебром и сверкают. Поверху лодка проплыла, словно безголовая птица пролетела на белых крыльях весельной пены.
— Можно, конечно, и на эскалаторе, — по-своему истолковал Охломоныч выраженье на лице Фомы, — только жужжит он, как комар. Не люблю я эту подлую животную. Хуже буржуя.
Туннель кончился, и Фома Игуаныч оглох от потрясения внезапно открывшимся пространством. Сумрачный мир бирюзовых вод Глубокого вспучился такой раздольной, такой заманчивой свободой, что после некоторого остолбенения хотелось прыгать, орать и бежать наперегонки. Прозрачный шатер, над куполом которого вместо облаков тяжело переливались янтарем волны, был наполнен ровным светом. А под этим шатром стояли чудные здания, словно выложенные детьми великанов из кубиков, цилиндров, шаров и полушарий. Некоторые, самые причудливые из них, были подвешены к потолку или прилеплены на манер осиных сот к стенам. Между этими игрушечными строениями циклопических размеров на просторных полянах были щедро разбросаны футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, плавательные бассейны, теннисные корты, катки и хоккейные коробки, тренажеры. А мячи всех размеров и калибров в изобилии лежали на зеленых газонах, словно разноцветные грибы-дождевики.
— Я чего школу-то сюда упрятал, — объяснил творческий замысел Охломоныч, — чтобы ребятишкам интерес был. Интересно, небось, в школу под воду ходить? Да и шуму от них наверху меньше будет. Ни мы им мешать, ни они у нас под ногами путаться не будут.
— А как пузырь лопнет? — мрачно предположил Игуаныч.
Охломоныч подошел к прозрачной стене и, что было сил, пнул стекло.
— Кто лопнет? — обиделся он. — Шар земной лопнет, а пузырь останется. Я же понимаю — пацаны. Они и танку башню своротят. Прочность такая, что ничего прочнее нет.
Земля под пузырем была покрыта одним зеленым ковром без дорог и тропинок.
— Это чтобы ребятишкам мягче падать было, — объяснил Охломоныч. — Падать-то они все равно будут. Не стреножить же. Так уж лучше, чтобы не на асфальт, а на травку. У нас же все школьные дворы норовили асфальтом залить. Культура, говорят. Треснется пацан башкой о такую культуру — и все: на больше двойки не рассчитывай.
Густотравные поляны спортивных площадок окружали кусты и деревья, причем некоторые из них были совершенно тропического вида.
— Я чего подумал, — смутившись, объяснил Охломоныч, — температура круглый год одна и та же, летняя, зачем же листопад устраивать? Да и толку с них больше, чем с берез. На березах бананы с ананасами не растут. Опять же юннатам будет чем заняться. Я, было, о зоопарке подумал, да засомневался. Пацаны все-таки. Клетки пораскрывают — бегай потом, собирай тигров.
— Зоопарк? — переспросил одеревеневшим языком Фома Игуаныч, с трудом воспринимая слова и окружающую действительность. — А это что такое белое? По-над стенкой.
— Снег не узнал? — удивился Охломоныч.
— Так ведь лето.
— А это такой снег, что не тает. Вот и пусть пацаны круглый год на лыжах бегают. Тут вкруговую километров десять наберется. Пробежится человек разок — и хулиганить настроения не будет. А не набегался — с вышки в воду попрыгай. Правильно рассуждаю? Места много. На всякие забавы хватит. А, с другой стороны, школа вроде бы вообще никакого места не занимает. Здесь, если что, всей Новостаровкой можно спрятаться и всю жизнь прожить. Скажу по секрету, есть у меня задумка еще два пузыря под водой надуть. Хочу парк культуры и отдыха устроить.
Сказавши это, Охломоныч, обратив взор внутрь себя, надолго замолчал, представляя аллеи и аттракционы будущего парка.
— А еще один пузырь для чего? — прервал его размышления Игуаныч.
— Какой пузырь? — с трудом вырвался из сладкого плена буйной фантазии Охломоныч, но, быстро сориентировавшись во времени и пространстве, наклонился к уху собеседника и прошептал задушевно: — Для кладбища. Тихая музыка играет, покойно, чисто, безветренно. Как в раю. И посторонних никого. Как думаешь, хорошо?
Случилось, однако, так, что пришлось в самое скорое время надувать пузырь над самой Новостаровкой.
Внутренний голос давно предупреждал Охломоныча, что с приобретенным благополучием деревню ждут большие неприятности.
И действительно: вдруг в забытую всеми дыру неудержимо хлынуло начальство и жулье.