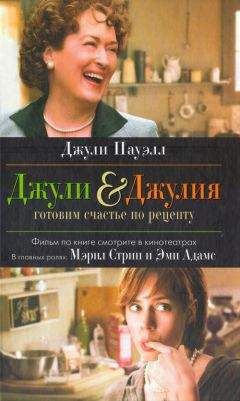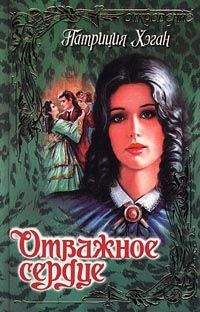Николай Веревочкин - Белая дыра
И действительно: вдруг в забытую всеми дыру неудержимо хлынуло начальство и жулье.
Жуликов в Новостаровке и без того хватало. Были даже свои рэкетиры — Васька и Петька Мордастовы. Это же зимой, еще до жука, они бабку Шлычиху чуть до смерти не перепугали. Что ты! На счетчик поставили. Как раз старушка пенсию получила. Только свернула с улицы Первоцелинников в Овражный переулок, стоят у плетня. На мордах — чулки импортные, черные, дырявые. Того, козлы, не понимают, что морды-то спрятать можно, а куда ж ты пимы подшитые спрячешь?
По пимам их бабы изобличили и коромыслами по башке воспитали.
Ну да хрен с ними, с Мордастовыми, дело прошлое.
Что же касается начальства, его в Новостаровке с самой перестройки не видели, а тут вдруг повалили, как вороны на падаль. Что ни день — новый пень. Землемеры всякие объявились, налоговые инспектора, милиция-полиция. «А почему у вас, — указывают Охломонычу на жука, — иномарка не растаможена. Непорядок».
Однажды к дому подошел парнишка, который очень не понравился Полуунте. Не человек — танк из мяса. Остановился у калитки и рукой поманил:
— Слышь, мужик, базар есть.
— Что за базар? — не понял Охломоныч. — Ты кто такой, упитанный?
Шкаф шкафом. Вся разница — у одного одежда внутри, а у этого снаружи. Шагнул навстречу и руку протянул. Пятерня размером со штыковую лопату.
— Глоб.
Лицо у Глоба просторное. Такое лицо — штаны не застегнешь. Багровое, гладкое, щеки значительно шире плеч. Затылок стриженный, ровный, хоть мяч на него ставь. Шеи нет. Лба практически тоже, если не считать одну, но глубокую морщину и место, что занимают брови.
— И чего тебе надобно, Глоб?
— Я чо сказать хочу: делиться надо, папаша, — изящно выразил мысль парнишка.
— Дом, что ли, построить? — попытался уточнить запросы клиента Охломоныч.
— Ты, типа, не догоняешь? — удивился Глоб. — На фига мне твой дом?
— А чего же тебе надо?
— Машинку твою нерастаможенную.
— А в уборную по-маленькому не хочешь? — рассердился Охломоныч. — Ты чей будешь, веник шустрый?
— Чей будешь, чей будешь, — передразнил молодой шкаф. — Деревня! Тещинские мы. Не слыхал?
— Вы тещинские, мы новостаровские. Что с того?
— Да ты, дед, совсем политически неграмотный, — разочаровался в Охломоныче Глоб и пояснил внушительно. — Тещинская братва. Понимаешь, дед?
Тритон Охломонович вспыхнул лицом, но сдержал себя от резких выражений, а только сказал интеллигентно три слова на трех языках:
— Кет, фрау, на хрен!
От бесконечного изумления парнишка превратился в глыбу льда. Лишь через минуту-другую глаза у него слегка оттаяли, но сделались красными, как у непохмеленного кролика.
— Ты, дед, в натуре, не врубаешься? — спросил он, придя в себя, но все еще не веря своим ушам. — Или ты жизнь не ценишь? Давай ключик и будем прощаться.
— Ах, тебе ключик, Буратино ты недоструганное!
Глоб вздохнул с огорчением. Растопырив руки, он двинулся к Охломонычу. Земля содрогнулась под его башмаками. Подошва — толще, чем протекторы у «Кировца». Не только обувь, все в тещинском братке было круто. Из-за полного отсутствия шеи и надменной курносости голова его была похожа на башню короткоствольного танка. И хрустнули бы под этим танком из мяса косточки Охломоныча, если бы не удар в область копчика, оторвавший Глоба от земли и отбросивший в единственную заповедную лужу Новостаровки, возможно, специально оставленную для подобных случаев. Пинок был такой чудовищной силы, будто в него вложил совместные усилия взвод сильно огорченных омоновцев.
— Ключик! — хмыкнул Охломоныч. — Эх, ты, сопля тещинская. Да разве ж у таких машин ключики бывают?
Долго, сидя в луже, крутил головой нокаутированный Глоб в поисках обидчика. Никого рядом не было. Удар словно бы возник из чистого новостаровского воздуха, из ничего. Из гнева праведного.
Пинок, сваливший братка, совершенно перевоспитал его. Лужу расплескал жлоб, а восстал из нее скромный, если не сказать стеснительный, молодой человек. Нежно прикрывая руками ушибленный копчик от возможных посягательств, молча засеменил он за угол, где его поджидал «мерседес», похожий на толстозадого таракана.
— Морда не в грязи, Жоба Жобович? — спросил, смущаясь, Глоб.
— Мама тебя и такого любить будет, — утешил невидимый за непроницаемыми стеклами босс и приструнил. — Куда прешь, чудо чумазое!
Потоптался Глоб, брезгливо осматривая себя, снял одежды и, завернув в более-менее чистую рубашку, швырнул их в багажник, как в раскрытую пасть крокодила. В одних трусах он казался еще громаднее.
— Вы не видели, Жоба Жобович, какой гад меня пнул? — спросил он робко, ложась на живот вдоль задних сидений и поджимая ноги.
Босс не ответил.
Но когда отъехали на приличное расстояние от Новостаровки, Жоба Жобович Шнурский сказал, мрачно играя желваками:
— А машинка-то норовистая. Брыкучая. Ничего — стреножим.
— Жоба Жобович, может быть, вы сами поговорите с дедом? Вам он уступит, — виновато посоветовал раненный в копчик Глоб.
— Если уж ты не сумел договориться, куда уж мне. И о чем говорить с человеком, которого деньги не интересуют? Ты ему деньги предлагал?
— Не успел, — смутился Глоб.
— Хотя зачем ему деньги? — рассудил Жоба Жобович. — С такой машиной вообще ничего не надо.
Жоба Жобович Шнурский был личностью известной и уважаемой в Тещинске, хотя никто не знал, чем он, собственно, занимается. Пришло такое долгожданное время, что для уважения достаточно было просто иметь много денег. Жоба Жобович умел делать деньги, ничего не создавая, и имел их столько, что в принципе мог купить всю эту молодую суверенную страну. Еще бы и на пачку сигарет осталось. Со спичками. Только зачем же мелочиться? Уж если покупать, то всю планету оптом. С околоземным пространством. Несмотря на такие аппетиты, в физическом измерении был босс весьма незначителен. И если бы господина Шнурского увидел в бане незнакомый с ним человек, вряд ли на него произвела впечатление плюгавость и неряшливая плешивость хозяина жизни. В бане не носят костюмов, пошитых на заказ французскими кутерье. А без них голый Жоба Жобович мужичишка так себе. Средней пузатости. Спина корытом, и там, где у птиц небесных крылья растут, волосами покрыта. Тоненькие ножки буквой «х». Лысина неопрятная. Шея сзади словно подрублена. Голову при ходьбе откидывает и, как рюкзачок, носит.
Казалось бы — тьфу! А на самом деле в невзрачном теле Шнурского таилась невероятная, космическая страсть. Это был не человек, а клокочущий вселенский вулкан на слабых ножках. Мир он делил на себя и все остальное. Другими словами, приравнивал себя к Вселенной. Беда была в том, что в самом Шнурском не было ничего, в то время как в остальном мире обитало благо, богатство, удовольствия, вся прелесть существования. Мир представлялся роскошной и порочной красавицей, обещавшей ему руку, сердце и все остальное. Вместе с приданым. Любого, кто посягал на его избранницу, он люто ревновал. В ревности он был велик. Ни один из самцов и близко не мог подойти к градусу его ревности.
Между тем надежд на взаимность не было никаких. Природа поступила с ним скверно, обделив внешностью, умом, каким-нибудь завалященьким пустячным талантишкой. Тем хуже для природы. Всякого самца, обладавшего внешностью ли, умом ли, физическим превосходством, а особенно способностью к чему-либо, он воспринимал как оскорбителя, посягнувшего на его женщину.
Как и любой ревнивец, он ненавидел предмет своего обожания и, естественно, был рогат.
Рога его были размером со Вселенную.
У каждого живого существа должна быть душа. Однако у Шнурского ее не было. На месте души зияла черная дыра, затягивающая в себя все, на что положил глаз Жоба Жобович. Все, к чему прикасался он, превращалось в деньги. Как детсадовский малец подходил он к понравившейся вещи и говорил: «Дай, это мое». Все, кто не был согласен с подобной очевидностью, вызывали в Шнурском ярость. Он не демонстрировал ее, но рано или поздно под задницей у строптивых или что-нибудь взрывалось, или в голове появлялась дырка, несовместимая с жизнью, или без особого шума и членовредительства акции непонятливых перетекали в карман Шнурского.
Но черной, ненасытной дыре все было мало. Ей нужен был весь мир.
И судьба дала Жобе Жобовичу шанс.
Слухи о том, что в неизвестной миру Новостаровке, затерявшейся в навозном краю, какой-то мужик весь в кирзе и мазуте стал на общественных началах Богом и творит мир по своему разумению, очень обидели господина Шнурского. Потому что господин Шнурский считал Богом себя и не терпел конкурентов.
Масштаб дела был таков, что поручать его нельзя было никому, и Жоба Жобович решил сам сходить на разведку. Теперь, возвращаясь из Новостаровки, он испытывал странное чувство злобы и радости. Мир был у него в кармане. Зачем он был ему? Странный вопрос. Чтобы съесть.