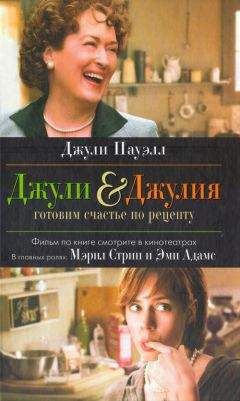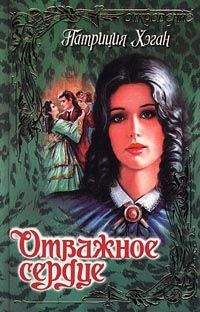Николай Веревочкин - Белая дыра
— Это же дух пропадет, — растерянно бормотал между тем Николай Нидвораевич, чувствуя свою правоту, но не умея найти нужные слова, чтобы объясниться. — Это же Новостаровки того — больше не будет.
— Не переживай, Нидвораич, — хлопнул его, утешая, по плечу Кумбалов, — мы тебе одну лужу оставим. Рисуй, хоть зарисуйся.
Одинокий, потерянный и не понятый стоял самодеятельный художник в кругу развеселившихся новостаровцев и лишь печально вздыхал да разводил руками, испачканными красками. Добывал он их из местных новостаровских минералов и хранил секрет приготовления как великую тайну.
Если бы через неделю кто-то из уехавших, скажем, в Германию, новостаровцев вернулся на родину, он бы сильно растерялся и подумал, что попал совсем в другую часть света.
А может быть, и на другую, более счастливую планету.
Как и обещал Охломонычу внутренний голос, село было приведено в соответствие с красотой окружающей его среды.
Хотя селом его уже нельзя было назвать, как, впрочем, и городом. Это было нечто, что нельзя встретить на Земле и чему по новизне явления еще не придумано название.
Ни одной развалюхи, ни одной кучи золы, более того, ни одной дохлой кошки в канаве, как, впрочем, и ни одной канавы — ничего, чем славилась прежняя Новостаровка, не осталось и в помине. Была лишь невероятная для здешних мест чистота и такая красота, что могла лишь присниться. Да и то не всем. Жилища смотрелись так трогательно и душевно, будто выросли вместе с деревьями и травой естественным образом. В них не было тщеславной роскоши особняков новых русских, а лишь спокойная, уютная простота совершенства. Приятно шершавая, теплая и мягкая, как ладонь, материя покрывала дороги, тропинки, мосты и мостики, обтекая деревья и лужайки. В отличие от асфальта была она совершенно безопасна для детей и подвыпивших граждан. Хочешь — бегай босиком, хочешь — играй в футбол, хочешь — падай. Иной раз так человек шлепнется, что, кажется, и костей не соберешь, а он встал и пошел. Ни шишки тебе, ни ссадины, ни царапины. Причем покрытие это самоочищается, впитывает лишнюю воду и, смотря по времени суток или сезону, меняет цвет, дабы соответствовать настроению природы и не утомлять человеческий глаз однообразием. О жилищах рассказать вообще невозможно, их надо видеть. Каждый дом не похож на другие, каждый по-своему красив, а все вместе они составляют такой гармоничный ансамбль, что даже у человека, неискушенного в архитектуре, невольно наворачивалась слеза умиления, а из уст вырывался мат, полный нежного изумления. Все эти жилища, улицы и закоулки составляли как бы один дом.
И что особенно удивительно для сельской местности, нигде не видно коровьих лепешек и следов тракторных гусениц. Дело даже не в самоочищающемся асфальте и не в особой интеллигентности новостаровских коров и трактористов. Скотина она везде скотина, и еще ни один трактор не ходил на цыпочках. Дело в том, что план села был настолько продуман и все устроено настолько удобно для жизни, что люди, животные и машины не мешали и не портили впечатления друг другу… На стыках огородов были сделаны проходы для скота. Выпусти туда буренку, и она, как шарик по желобу, непременно попадет к месту сбора стада. Что касается самодвижущихся механизмов, то ни один из них, исключая жука, не допускался на улицы. Новостаровка, если кто помнит, стоит на возвышении, на холмах, как бы на зеленом облаке. И эта особенность была удачно использована Охломонычем. В это возвышение были прорыты четыре туннеля во все стороны света, которые сходились в центре под гулким сводом. Это был как бы общий погреб, куда свозились, минуя чистые улицы зерно, картофель и прочие запасы. Туннели были связаны спиралеподобными норами с каждым домом. Все, что могло испортить впечатление и оскорбить вкус новостаровцев пряталось под землю. Помимо общего погреба под каждым домом был свой, такой большой и такой уютный, что в нем не только можно было хранить продукты, но, случись на то необходимость, и жить со всеми удобствами. В подземной Новостаровке все было так же продумано до мелочей, все радовало глаз. И многие новостаровцы предпочитали большую часть времени проводить именно в ровной сухой прохладе подземелья под высокими гулкими сводами. Как облака отражаются в озере, так и Новостаровка отразилась под своими холмами — чисто и опрятно.
Охломоныч в творческой лихорадке и сам сон потерял и замучил квартирующую в нем душу, выводя из терпения внутренний голос все новыми и новыми идеями переустройства Новостаровки. Много чудес сотворил Охломоныч, но самое чудное было то, что он совершенно бросил пить. Ведь отчего пьет русский человек? Душа у него большая, безразмерная — вот в чем беда. Весь мир в нее влезет, и еще немножко места останется. Ему и дело нужно по душе — огромное, вселенское. А на долю достается какой-нибудь случайный пустяк. Муравьиные хлопоты. Вот мужик и заливает бездонные пустоты души всякой гадостью, не подозревая о причинах смертной тоски. Но уж если душа опьянена делом, какой смысл в водке? Если человек получает удовольствие от дела, он и работает, как пьет — до полного самозабвения, до чертиков в глазах. Идей у Охломоныча было больше, чем комаров на неждановских болотах.
— А что если, скажем, такое облако над Новостаровкой запустить, а на нем еще одну Новостаровку построить. Это можно? — не давал он покоя подселенной душе.
Чужая трезвая душа фыркала, как кот, которому вместо мяса подсунули редиску, и отвечала совершенно неинтеллигентно: «Можно. А на хрена?»
— Красиво.
«Красиво. Только на хрена собаке крылья?»
— У собаки нет крыльев.
«И очень хорошо».
Узрев град, воссиявший на холмах у озера Глубокого, взглянули новостаровцы друг на друга и удручены были без меры собственной тусклостью. До умиления прекрасен и благолепен был град, будто сотканный из чистой материи облаков, но уродливы и кургузы жители его. И, почувствовав себя тараканами, ползающими по лику божьему, устыдились они самих себя. В великом стеснении потупили мутные очи недостойные ангельских жилищ.
…Извините, мужики, за высокий штиль, но трудно обычными словами передать состояние новостаровцев, разве что напомнив про свинью и калашный ряд. Грубо, однако, сами понимаете, для художественной литературы, да и для новостаровцев обидно. Поколотить могут.
Одно дело, если ты сильно помят жизнью, хром, крив, ряб, кос, но живешь в развалюхе, и совсем другое, если при всех этих достоинствах одарен жилищем, угодным не царям даже, а самим богам.
Застесняешься.
Все чаще, все задумчивее смотрели новостаровцы на две правые ноги Митрича, все настойчивее топтались возле Охломоныча, утомленного работой Бога, сумрачно намекали с обидой: не один, мол, такой убогий, отчего же ему такие льготы, чем другие хуже? Где справедливость? Охломоныч, занятый переустройством родного захолустья, намеков не понимал и сильно удивлялся на эти претензии. Деревенский человек не любит, когда вокруг да около, ты ему — прямо в лоб, тогда дойдет. Вот Иван Кумбалов и разъяснил: «Чего им надо? А что надо недоделанным? Надо чтобы их доделали, привели в полное физическое и духовное совершенство».
— Ну, я уж и не знаю, — смутился Охломоныч и прислушался к внутреннему голосу.
Но тот надолго онемел от таких заявок и только хмыкал да стрекотал что-то на незнакомом птичьем языке. Видимо, матерился не по-нашему. Но, налопотавшись, вздохнула протяжно отходчивая душа и сказала совершенно по-новостаровски: «А, была не была, все равно все там будем!»
И жук раскрыл два крылышка одновременно.
— Ну, мужики, пеняйте на себя, — зловеще напутствовал земляков Охломоныч.
Сумрачно посмотрели новостаровцы в разверзнувшиеся гробы и затоптались на месте, переглядываясь и шушукаясь, вежливо уступая друг другу очередь.
И вышел вперед самый сознательный — Кумбалов, и принес себя в жертву общему делу. Сплотился народ и выпихнул из недр своих в компанию ему самую слабую — бабку Шлычиху со словами: «Чего уж тебе терять, старая…»
Спрятав под крылья пионеров, как клушка цыплят, зажжужала машина под немигающие взгляды. Нарушали великую тишину лишь озерные волны, с шуршанием накатывающиеся на белые прибрежные пески, да хохот одинокого мартына.
Раскрылось первое крылышко, и вышел из машины Иван Кумбалов, певец родных околиц и борец за счастье всего человечества. Ропот разочарования встретил его. Ничего не изменилось в облике земляка: то же мамонтоподобие, та же башка на десять литров и непричесанная, рыжая львиная грива.
Но, когда из-под другого крыла появилась статная женщина с румянцем во все гладкие щеки, с гордой осанкой и упругими, как волейбольные мячи, грудями, никто не узнал в ней согнутую в бумеранг старуху, какой была она всего лишь пять минут тому назад.
Бабы бросились к жуку, отпихивая друг друга локтями и ругаясь, как в очереди за бесплатным дефицитом. Даже Шлычиха поддалась общему настроению и, растолкав всех, вновь оказалась первой у заветного гроба. Но бесстыжую быстро привели в чувство словами острыми, как горчица. Вроде того, что мало старухе бабой стать, ей еще и девственницей быть захотелось. Но это, понятно, в переводе с новостаровского. Тут только Шлычиха и осознала перемены, случившиеся с ней. Ишь, как старая бедрами закрутила, застреляла глазами, смущая мужиков и вводя в грех презрительной зависти баб. Не женщина — конь в яблоках.