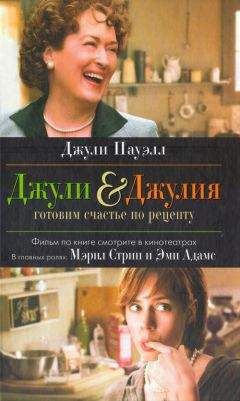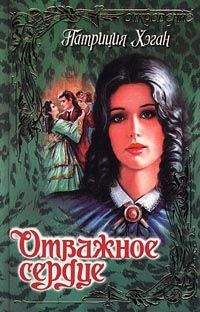Николай Веревочкин - Белая дыра
На месте лопнувшего пузыря обнаружилось что-то вроде пивной пены, которая колыхалась и переливалась синим, зеленым, красным и белым. Бесформенная масса шипела, шуршала, шелестела и, постепенно оседая и уплотняясь, принимала очертания сказочного терема.
Раздался веселый и дерзкий звук, похожий на пощечину.
Разноцветное месиво содрогнулось, бледнея. Только углы и шпили еще некоторое время дорастали, но, достигнув своих пределов, с хрустом застывали, словно водопад мгновенно превращался в лед. Из отклубившейся пены возникали большие окна с такими чистыми стеклами, будто их вообще не было, золотосмоляные венцы стен, красная крыша крестом на все стороны света из какого-то вечного материала, по виду похожего на черепицу. Мансарду украшали четыре белых полукруглых балкона. А когда дом окончательно нарисовался, вплоть до резьбы на наличниках и кружев на дождевых трубах, над крышей, завершая это сказочное хулиганство, с мелодичным кряхтением вырос скворечник. И такой это был скворечник, что сам бы жил, да денег нету. Завершенный во всех мелочах, дом стоял такой красивый, такой чистый, свежий и прочный, что просто слеза наворачивалась смотреть на эту игрушку. Хором ахнув, новостаровцы, может быть, впервые увидели, насколько красиво место, где стоит их село, если не портить пейзаж собственным безобразием..
А жук сопел и жужжал в запале и все не мог остановиться — пополз, ворча, пожирать ветхие заборы, полуистлевшие плетни и близлежащий мусор, тут же выдавливая из себя новую ограду. Но что это была за ограда! Такая это была узорчатая, такая чудная ограда, что Митрич не выдержал изобильной красоты и окончательно протрезвел. По переулку, что особенно понравилось, жук встроил в новый, не знаю как назвать, плетень несколько беседок с круглыми плетеными столиками и полукруглыми скамейками — отдыхай, земляки, коли устали — такие ниши с навесами от дождя и солнца. Оплетя дом и огород царским узором, жук вернулся на исходную позицию, удовлетворенно вздохнул, смачно втянул в себя хобот и застыл. Минут пять над Новостаровкой стояла напряженная тишина ожидания. Жук приподнял крылышко-дверцу и обалдевший, бледный Охломоныч сказал в окружающее пространство: «Да-а-а-а…»
Митрич, успевший в короткий перерыв между чудесами перемотать две половинки треснувшей ноги алюминиевой проволокой, отчего она теперь яростно скрипела и повизгивала, крадучись, приковылял к жуку и обошел его, пытаясь заглянуть под днище и в другие потаенные места. Сломанная деревяшка оставляла на живой земле глубокий след, похожий на условную границу, какой ее рисуют на картах, отделяя государство от государства.
— Умная механизма, — одобрил он жука, — а только, спорим на рубль, новую ногу не сделает.
Охломоныч вышел из оцепенения и обиделся:
— Дай-ка сюда твою деревяшку.
— Э, — разочаровался Митрич, — деревяшку и я топором из осины вырублю. Ты мне живую ногу сделай.
Нахмурился Охломоныч и после некоторого замешательства сказал неуверенно:
— Попробовать можно.
Ужас объял робкие души новостаровцев от этих простых слов.
Жук приподнял второе крылышко и внутри его обнаружилась узкая и уютная ниша, похожая на отделанный алым бархатом гроб, в котором хоронят новых буржуев.
— Полезай, — кивнул Охломоныч, — только я, в случае чего, не отвечаю.
— Сапоги-то сними, — проворчал завистливый Дюбель, — всю красоту изгваздаешь. Да и штаны бы скинул с фуфайкой. Мазуты там твоей не хватало.
— Неудобно, кум, при бабах-то, — для ради приличия молвил Митрич, сноровисто расстегивая ширинку.
— Неудобно, — ворчал Дюбель, раскомандовавшийся по праву ближайшего соседа Охломоныча, — неудобно граблями расчесываться и метлой зубы чистить. Деревяшку-то, деревяшку отстегни.
Только устроился Митрич в уютном гробике, как с легким чавканьем опустилось крылышко, и жук приятно зажужжал.
Митрич захихикал.
— Ты чего, Митрич? — испугался Охломоныч.
— Щекотно, — ответил тот, давясь смехом, и захохотал как сумасшедший.
Страшен был этот смех из утробы машины.
Деревня, включая собак, петухов, воробьев, уток и колорадских жуков, затихла в ожидании чуда. Даже ветер, лениво раскачивающий вершины тополей, заробел и стих. Один невидимый миру Митрич веселился.
Когда же крылышко вновь приподнялось, новостаровцы, увидев Митрича, отшатнулись.
— Двуногий! Двуногий! — завизжала внучка Митрича, конопатая девчушка лет семи.
И народ на разные лады принялся повторять это слово — кто в восхищении, кто в ужасе, кто крестясь, кто матерясь.
Митрич же бодро выпрыгнул из жука и, не одевши штаны, первым делом осторожно присел.
— Работает! Работает! — завизжала в восторге конопатая внучка.
И все снова повторили это слово.
Митрич присел раз, присел два, да и пустился в присядку, звонко хлопая по голой ляжке новой ноги и распевая матерные частушки.
Однако, наплясавши отдышку, он внезапно остановился и сказал в большом недоумении:
— Охломоныч, нога-то правая. А правая у меня одна уже есть.
— Ишь, какой разборчивый, — возмутился Дюбель, — еще и претензии предъявляет! Охломоныч, верни ему его деревяшку, раз живая нога не нравится, чтобы не выкаблучивался.
— Да я чего, я ничего, — испугался Митрич. — Как, однако, с обувкой быть?
— Нет проблем, — сказал слегка оскорбленный неблагодарностью Митрича Охломоныч, — сполосни-ка сапог.
Пока Митрич мыл в луже сапог, к жуку, бочком-бочком, подкралась его робкая супруга. Женщина пышная, повидавшая в жизни много горя. Как-никак третьего мужа донашивает.
— А можешь ли ты, кум, сделать моему старику новый, — тут она густо покраснела и, приблизив полные губы к самому уху Охломоныча, жарко прошептала заветное желание.
— Ну-у-у-у, — в изумлении и замешательстве пожал плечами Охломоныч. — Уж и не знаю. Достойный образец нужен. А где его взять?
— Да это не к спеху, кум, — засмущалась, потупив глаза, сдобная женщина, однако не сумела скрыть волнения. — Неужто во всей Новостаровке достойного образца не найдется?
— Ну-у-у-у, — загудел Охломоныч в большом сомнении, меря на глаз пышные формы. — Трудно на тебя, кума, достойный образец найти. Прямо теряюсь.
— Не приставай, Мандрена, к человеку с пустяками, — отогнал несерьезную бабу от жука и Охломоныча ревнивый Дюбель.
С солидной завистью вертел он в руках растиражированный сапог Митрича, опытным глазом отмечая разницу между образцом и копиями. Тот был кирзовый, без каблука, на сгибах потерт — тьфу, а не сапог, не жалко и выбросить. А эти — яловые, блестящие, модного фасона, сам бы носил, да все на правую ногу.
— Ишь, машинка, идрит твоего дедушку! — восхитился Дюбель. — С этакой машинкой какие деньги заколачивать можно!
— Да хрен ли толку в этих деньгах, — в легкомысленном презрении возразил Охломоныч. — Что в них? Так — сор один да пакость.
— А вот хрен пропалывать, сосед, не надо, — обиделся на такое святотатство хозяйственный Дюбель. — Чем тебе деньги-то не нравятся? Разве уж тем, что нет их?
И, прижавшись пузом к соседу, так же страстно, как и Мандрена, зашептал, брызжа в ухо слюной, заветное желание: «Я же не про наши, деревянные, я про настоящие деньги. Есть у меня, сосед, сто американских долларов. Давай их вечером в машинку засунем. Миллион мне, миллион тебе, тыщу — в фонд мира».
— Доллары, — зевнул Охломоныч и сочно сплюнул. — Что мне твои доллары, когда я могу из кучи навоза три кучи золота сделать. Хочешь, сделаю так, что ты по большому золотом будешь ходить, а по маленькому — серебром?
— Сделай! — с невиданным энтузиазмом вскричал Дюбель.
Тритон Охломоныч трижды смерил соседа суровым взглядом и молвил со зловещей угрозой:
— Разве что и вправду сделать? Хоть какой-то толк из тебя выйдет.
— Да он же всю Новостаровку золотом загадит, — возразил раскатистым басом, подходя к толпе, Кумбалов.
На плече спиннинг, а на кончике хлыстика колокольчик раскачивается и звенит.
— А тебе, Иван, чего сделать? Хочешь мормышку?
— Лично мне, Тритоша, делать ничего не надо. Будем делать коммунизм в одной отдельно взятой Новостаровке. Полное то есть изобилие на каждую гармонически развитую душу населения.
Новостаровцы, почувствовав халяву, одобрительно загудели пчелиным роем. И лишь Николай Нидвораевич, художник новостаровский, высказал сомнение.
— А как же красота? — спросил он с робким и тревожным недоумением, простирая руку и обводя ею родное захолустье. — Это что же — все это пропадет, исчезнет? Эти клочья облаков в лужах? Эти плетни? Эти узоры сучков на горбылях?
Новостаровский народ усердно поворачивал головы вслед за указующей рукой, но так и не понял, о какой такой красоте лопочет земляк. Чего такого красивого видит он в подпертом осиновым дрыном полусгнившем заборе бабки Шлычихи?