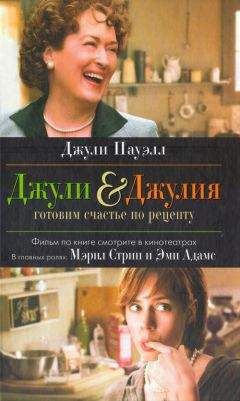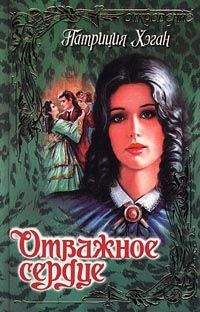Николай Веревочкин - Белая дыра
— Это что за хреновина, Хломоныч? — любопытствует Митрич, пытаясь вытащить деревянную ногу из густой донной грязи. Но она засела прочно, как гвоздь в половице, — ни шагу шагнуть, ни упасть на крайний случай.
— Хреновина — это то, чем ты закусываешь, Митрич, — обиделся Охломоныч, — а это, чтоб ты знал, механизм.
— Нам без разницы, чем закусывать, было бы чего выпить, — ответил Митрич и, побагровев лицом, принялся тащить ногу из грязи руками.
Блудный пес Полуунтя, робко звеня огрызком цепи и мелко дрожа тощим телом, в полном замешательстве обнюхивал нарисованные ягоды. Этим же занимался и Николай Нидвораевич, ползая по ровной поверхности, невесть откуда появившейся на месте его любимой лужи, изумлением своим превосходя кусачего друга человека. Изучив дорогу, Полуунтя подкрался к жуку, обнюхал его и поднял, было, ногу, дабы закрепить священное право собственности, но механизм глухо и недовольно заурчал. Пес и новостаровцы живо отринули.
— Всем отойти за дорогу на другой порядок и ближе Шлычихина дома к механизму не подходить, — высунувшись из жука, как из люка танка, приказал Охломоныч, испуганный урчанием не меньше других, и заорал басом: — Мать!
Со скрипом отворилась дверь и со двора вышла сильно раздобревшая на городских харчах Эндра Мосевна. За юбку ее держался нарядно одетый, но сильно сопливый пацаненок. Внук Зюма.
— Вынеси-ка из дому икону и ружье, — распорядился Тритон Охломоныч и крикнул вслед безропотно повиновавшейся супруге: — да за печью, в пиму, бутылку не забудь.
«Ну, выбирай, Тритон Охломоныч, жилище», — задушевно сказал внутренний голос, и прямо на лобовом стекле появился объемный макет здания.
Покрутившись, словно в вальсе, дом растаял, но на смену ему появился другой, краше прежнего. На второй сотне у Охломоныча зарябило в глазах, и он спросил:
— Сколько их всего-то?
«Три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч триста сорок пять», — без интонации проинформировал голос.
— И жизни не хватит все посмотреть, — сказал с сожалением Охломоныч.
А посмотреть было на что. Вот вроде бы этот — лучше уж и не бывает. Оказывается, бывает. А может быть, все-таки, тот, что под номером тринадцать? Ну, а этот вообще… Выбора нет — плохо, а большой выбор — еще хуже. Того гляди и окосеешь.
«Пригласил бы жену посоветоваться».
— Ну, вот еще! Глупая баба — только в кабине намусорит, — проворчал Охломоныч, однако, подумав, рявкнул: — Мать!
И рукой, эдак, энергично: полезай-ка сюда.
Эндра Мосевна, скромно поджав губы и склонив голову к могучей груди, поднялась в кабину, объем которой тут же и увеличился. Охломоныч не утерпел и сделал замечание:
— Ноги, ноги-то пооскреби. Не в хлев все-таки.
Упрек был несправедливым. Да кто же мужьям да женам делает справедливые замечания? Все больше для порядку, чтобы человек свое незначительное место в мироздании понимал.
Малец, размазывая обильные сопли по рукавам костюмчика, проник в машину следом. Собрав бабушкину юбку в складки, как портьеру, он выглянул из-за ее мощного бедра и, без особого любопытства посмотрев на кружащиеся дома, спросил важно:
— «Пентиум»? Не «Пентиум»? У меня «Пентитум». Круто.
Эндра Мосевна, на удивление, оказалась не такой уж глупой бабой, какой помнил ее Охломоныч. Посмотрев минуту-другую на танцующие дома, она сказала грудным голосом певицы Зыкиной:
— Вы, Тритон Охломонович, в этом больше меня разбираетесь. Уж какой выберете, такой и выберете.
— Хорошо, ступай, — мягким голосом приказал Охломоныч.
Очень ему понравился совет супруги. Чтобы с такой умной бабой и не посоветоваться. Золото, а не баба.
Однако дома, как солома в метель, пролетали один за одним, и от этого обильного мельтешенья Охломоныч затосковал.
— Вот что — выбери-ка сам, — сказал он внутреннему голосу, — у тебя это лучше получится.
«Я бы порекомендовал вот этот вариант», — тотчас же откликнулся внутренний голос, чрезвычайно уважительно и интеллигентно. Видать, понравились слова Охломоныча.
На лобовом стекле завальсировал дом, при виде которого на душе стало так хорошо, как бывает после первой рюмки. Да еще, может быть, в первую ночь медового месяца.
Покружившись, дом внезапно раскрылся, как утренний цветок, и впустил Охломоныча внутрь, путешествовать по своим комнатам, залам, спальням, кухням, столовым, горницам и прихожим, туалетам, мастерским, кладовым, мансардам и погребам, нишам и закоулкам. Изнутри он был еще краше, чем снаружи. Все в нем так ладно было устроено, так к месту, так просто и красиво, что дух захватывало.
«Да, идеальное сочетание эстетики и полезности, — скромно согласился с мыслями Охломоныча внутренний голос, — жилище функционально красиво. Кроме того, рассчитано на климатические условия Новостаровки. Не говоря о том, что вписывается в ландшафт. Поздравляю с выбором! Отличный вкус».
В тот день подпирающим плетень и лузгающим семечки новостаровцам, пережившим собственные души, и редким ребятишкам, воробьиной стаей рассевшимся на куче березовых дров, предстояло увидеть нечто настолько величественное и страшное, что от великого потрясения они сами внутренне переродились. Ибо человек, однажды увидевший акт творения, никогда уже не будет прежним. Хотя черт его, конечно, знает.
Во всяком случае, крик восхищения и ужаса потряс умирающее селение, когда туманно светящийся жук, распустив раструбом хвост, наехал задом на древнюю развалюху Охломоныча. Был он похож то ли на взбесившийся пылесос, то ли на озверевшую мясорубку, то ли на старинный прожорливый граммофон.
Дом неотвратимо и безжалостно втягивался в раструб. С невыносимым визгом мялось железо кровли, звенели, разбиваясь на мелкие осколки, стекла окон, с треском и хрустом ломались венцы — и все это, тая, словно снег, исчезало в небольшом жуке вместе с убогой утварью, сараем, оградами, недостроенной баней и туалетом, сколоченным из горбыля. И лишь ржавый скелет недостроенного ВЕЗДЕЛЕТОПЛАВОНЫРОНОРОХОДА пощадил неведомый механизм. Минута-другая и от старого дома осталось ровное, неживое место с черной могилкой погреба. Машина с приятным урчанием переваривала хлам.
Новостаровцы в оцепенении перекрестились. Даже те, кто не верил в Бога.
А Полуунтя, яростно защищавший вверенную ему недвижимость, увидев, что защищать, собственно, нечего, с визгом отчаянья бросился вон из села. Паническому его примеру последовали две-три особенно нервные старушки. Лишь Митрич, будучи шибко на кочерге, вполне сохранил присутствие духа, сказавши скептически:
— Ломать и мы могем. Ломать не строить.
Однако это было лишь начало, и жук тут же посрамил Митрича.
То, что произошло дальше, заставило бабку Шлычиху заголосить дурным голосом, а всех новостаровских собак — подхватить этот истеричный вопль дикого человека, впервые увидевшего пламя спички. Даже Митрич поддался общей панике, но при попытке бегства ступил деревянной ногой в щель между бревен, а она возьми да и тресни пополам. Расщеп так по самое колено и вонзился в землю. Черт бы с ней, с ногой, — бутылка разбилась, вот что обидно. Вдребезги.
А случилось вот что. Пожравши старый дом, жук, сыто отрыгиваясь, закружил по черной земле, аккуратно объезжая сирень, две яблони-дички и кусты лесной вишни, пересаженной Охломонычем лет десять тому назад из Бабаева бора. Двигался жук порывисто и четко, будто чертил — где по линейке, а где по лекалу. Затем, замурлыкав, отполз в сторонку и, свернув раструб хвоста в длинный хобот, изогнул его на манер скорпиона.
И выдул пузырь.
Именно в этот момент и заголосила бабка Шлычиха.
Пузырь был разноцветен и сумрачно прозрачен. Он рос, свисая с хобота-жала, содрогаясь и пульсируя, как сердце огромной улитки. Внутри его шевелилось нечто живое, косматое, нервное. И это нечто было настолько красиво и в то же время невыразимо ужасно, что не было сил оторвать от пузыря глаза, и не было сил бежать прочь на сравнительно безопасное расстояние. Так и стояли новостаровцы, слегка присев и выпучив очи.
— А как лопнет? — мрачно предположил быстро трезвеющий Митрич и заковылял на обломке прочь вдоль плетня.
Что же касается двуногих новостаровцев, то все как один они дружно перемахнули через плетень, в лоскуты изодрав несколько штанов и юбок, и уже оттуда, в щели, с трепетом наблюдали за этим вдохновенным безобразием.
Пузырь действительно лопнул.
Но звук при этом был скорее смешным, чем страшным.
На месте лопнувшего пузыря обнаружилось что-то вроде пивной пены, которая колыхалась и переливалась синим, зеленым, красным и белым. Бесформенная масса шипела, шуршала, шелестела и, постепенно оседая и уплотняясь, принимала очертания сказочного терема.
Раздался веселый и дерзкий звук, похожий на пощечину.
Разноцветное месиво содрогнулось, бледнея. Только углы и шпили еще некоторое время дорастали, но, достигнув своих пределов, с хрустом застывали, словно водопад мгновенно превращался в лед. Из отклубившейся пены возникали большие окна с такими чистыми стеклами, будто их вообще не было, золотосмоляные венцы стен, красная крыша крестом на все стороны света из какого-то вечного материала, по виду похожего на черепицу. Мансарду украшали четыре белых полукруглых балкона. А когда дом окончательно нарисовался, вплоть до резьбы на наличниках и кружев на дождевых трубах, над крышей, завершая это сказочное хулиганство, с мелодичным кряхтением вырос скворечник. И такой это был скворечник, что сам бы жил, да денег нету. Завершенный во всех мелочах, дом стоял такой красивый, такой чистый, свежий и прочный, что просто слеза наворачивалась смотреть на эту игрушку. Хором ахнув, новостаровцы, может быть, впервые увидели, насколько красиво место, где стоит их село, если не портить пейзаж собственным безобразием..