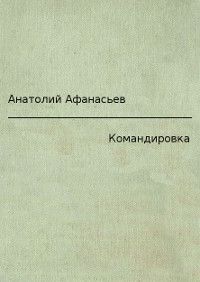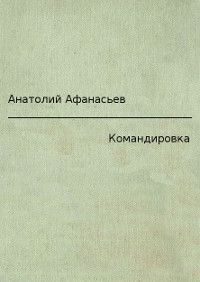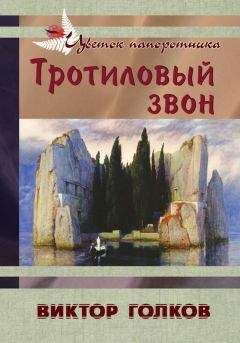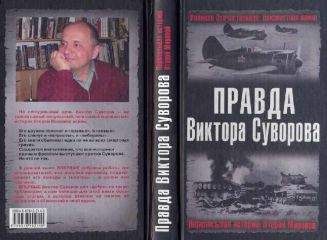Анатолий Афанасьев - Командировка
— Мы имеем полное право проверить. При исполнении служебных обязанностей.
— Где это сказано, что вы имеете право?
— В инструкции.
— Покажите.
Мужчина оказался в затруднительном положении и взглянул на потолок, словно оттуда ожидал явления инструкции. Горничная потихоньку пятилась и уже была на довольно большом от нас расстоянии. Я бы еще продолжал игру, да уж слишком скверно себя чувствовал.
— Хорошо, входите, — пригласил я. — Но прошу отметить в протоколе, что при аресте я не оказывал сопротивления.
Мужчина ввинтился в комнату ужом, заглянул под кровать, в шкаф, потом побежал в ванную, где почему-то задержался. Горничная сделала в его сторону презрительный жест.
Из ванной он вышел разочарованный и несколько смущенный.
— На вас я буду жаловаться, — успокоил я его, — но не туда, куда вы думаете. Совсем в другое место. Боюсь, что у вас скоро будут неприятности по службе.
— К нам поступил сигнал, — угрюмо сообщил сыщик.
— Это вы объясните прокурору. Кстати, что это у вас в кармане, не моя ли мыльница?
— Чего?!
— Подождите, я проверю, все ли на месте…
С этими словами я отправился в ванную, умылся, принял душ. Слышал, как хлопнула дверь. «Хоть часик еще бы поспать», — подумал я.
Лег, нацедил в воду тридцать капель валокордина, похмелился. И попробовал уснуть.
Я не уснул, а погрузился в унизительное ощущение собственной неполноценности. Тело скользило на тугих волнах, растягивалось в разные стороны, как резиновое, давление газа, казалось, с секунды на секунду вдребезги разнесет череп. «Это возраст дает себя знать, — подумал я. Никуда не денешься. Но это еще не конец».
Под моими закрытыми веками всплыл на мгновение сплошной багровый блеск и тут же исчез. Было очень плохо, тягуче, неопределенно. Я попытался думать о Наталье — какое там. Она устала от меня и не появлялась больше. Не сумел я ей ничего объяснить.
А себе — сумел?.. Себе, любимому?
Я лежу сейчас на какой-то койке, в каком-то доме — точке пространства, больной, голову мою пучит, — где я, что я? Напрягаю — невмочь! — бесцельные, крохотные крупицы чего-то, что есть мой ум, и легко представляю себя то ли эмбрионом, предтечей чего-то, то ли трупом, чем-то давно бывшим, отвалившимся куском коры…
Кто я? Зачем? Что со мной? — в страдальческой наивности этих вопросов зудящая боль веков. Кто я, человек — величавая насмешка некоей высшей духовности — или самоценный плод? Если мне не дано бессмертия, то кому тогда понадобилась эта минутная звездная мутация — моя жизнь? А если бессмертие существует — конечно же существует! — то почему мне никак не удается ухватить и потрогать его змеиный хвост? Какой я, и какие мы все? Игра воображения не всесильна, и она горький утешитель.
Кто я, в конце концов, утрата или обретение, течение или бледная точка в галактической карусели?
За что невозвратность мгновений?
Разумно ли, не убийственно ли, не подло ли играть бесконечно в одну и ту же игру, сознавая, что никогда не выиграешь, и все же нося под сердцем веру в чудо.
Кто я? Кто?! Утрата или обретение? Процесс или искра? Звон эха или излучатель звона?
Поганые никчемные мыслишки — прочь, прочь!
Мало вы попортили мне крови в молодости?
Я перевернулся с бока на спину, сел и затряс головой. Это было больно, но необходимо. Часы показывали начало десятого. Значит, я все-таки спал.
А вроде и не спал. Ладно, начнем утро вторично.
Я пошел в ванную, опять стал под душ и долго чередовал горячую воду с холодной.
И тут начались звонки, один за другим, я не успевал вешать трубку. Первой позвонила Шурочка Порецкая, мой юный гид, спросила, понадобится ли она мне утром, так как собирается отпроситься до обеда по своим личным делам; но если понадобится, то она готова отложить свои личные дела на неопределенный срок. Вникнув в эти сложные обстоятельства, я дал благосклонное согласие, заметив между прочим, что сердце мое разрывается на куски от разлуки. Вторым позвонил товарищ Капитанов, выразил желание повидаться. Я пообещал зайти, как только прибуду в институт.
Третьим возник через междугородную Перегудов.
— Что нового, Виктор Андреевич? — Его голос с трудом просачивался из хлопающих и повизгивающих помех.
— Плохо слышно, громче говорите…
— Что нового, Витя? Слышишь? Как идет расследование? — теперь на голос шефа наложилось бархатное мурлыканье Анны Герман, кто-то из телефонисток наслаждался шлягером.
— Выключите музыку! — крикнул я. — Владлен Осипович, выключите патефон, ничего не слышно…
— Виктор, ты что — оглох?
— Я сам вам позвоню.
После паузы, заполненной лирическими откровениями певицы, Перегудов сказал:
— Я тебя категорически предупреждаю, Виктор Андреевич! Никакой самодеятельности быть не должно. Я знаю, ты меня прекрасно слышишь… Повторяю: никакой самодеятельности!
— Самодеятельности? Вы сказали — самодеятельности?
В хор помех добавился чей-то кашель.
— Подожди, Виктор, милый дружок. Ты еще вернешься в Москву. Тут мы тебя сразу вылечим от глухоты… Будь здоров!
Перегудов там у себя шлепнул трубку на рычаг и, наверное, оглядывался на чем бы сорвать гнев. Он срывал гнев на предметах, к людям был объективен.
Да и гневался он редко, что говорить.
В буфете опять торговала кустодиевская красавица. Меня она признала по характерным синякам, потусторонняя мечтательность ее лица преобразилась в подобие земной улыбки. Я был тронут.
На радостях выпил целую бутылку кефира и с каждым кислым глотком чувствовал, как по капельке возвращается жизнь в мое бренное тело. Будь благословен напиток богов! О вы, великие зодчие, сжигающие себя в творческих муках, ищущие, кого бы обессмертить, — где ваш памятник корове, обыкновенной буренке, жующей травку сонными губами? Разве не заслужила она, делающая из младенцев богатырей, возвращающая силы больным, благодарности человечества?
Возвращаясь в номер, я столкнулся со своими земляками — четой Кирсановых и их сыном Шуриком.
— Давай, Виктор, — сурово сказал Юрий, — все дела по боку, и шпарим на пляж.
— Пойдемте с нами, — поддержала Зина, — такая чудесная погода.
Я сказал:
— Подождите внизу, ага? Я только полотенце возьму.
В вестибюле я подошел к знакомому администратору, который стоял на своем обычном месте у газетного киоска и, развесив губы, пялился на дверь.
— Извините, до сих пор не знаю вашей фамилии.
Рыбьи его глаза заволокло туманом.
— А зачем?
— В жалобе получается прочерк. Я же на вас жалобу пишу, без фамилии никак нельзя. Вы что, скрываете свою фамилию?
Он смотрел на меня не мигая.
— Зачем жалобу? Мы инструкции выполняем.
Был сигнал, наше дело отреагировать. Сами посудите, обязаны мы за порядком наблюдать?
— Вы почему фамилию не говорите?
— Буренков моя фамилия. Чего такого. Я не скрываюсь. Только зря вы это затеваете, толку все равно не будет.
— Вы рассчитываете, Буренков, на защитников, на тех, кто вам велел за мной приглядывать? Но они вам не помогут.
Он забеспокоился и невзначай сморгнул пару раз, как сплюнул.
— Кто велел? Вы тоже, знаете, лишнего на себя не берите. Не таких видали и целы. Пишите куда хочете.
Неприятный это был человек, я видел. Исполнитель чужих желаний. Безвольный и готовый укусить по приказу. Из вечно обиженных. Маленький человек навыворот.
— Буренков, — сказал я, — вы думали найти в моем номере женщину, как же вы ошиблись. Меня, к сожалению, женщины избегают. Я уж и так и сяк — не идут в номер. Не утруждайте себя понапрасну.
— Чего говорите-то, к чему? — буркнул он с плохо сдерживаемой досадой.
Ох, боюсь я таких. Ох, боюсь!
Поджидая меня, семья Кирсановых лакомилась мороженым.
Мы пошли по светлой аллее, где было ни сыро, ни душно, а в самый раз. Крутолобый сменный инженер, измученный ностальгией по родному заводу, был настроен сентиментально и даже взял меня под руку.
— Посмотрите, Виктор, красотища какая — эти ели. По тыще лет стоят, зеленеют, дышат. Нам с вами отпущено значительно меньше. Зато и тратим мы свое время куда как глупо. Мечемся все, куда-то стремимся, кого-то обгоняем. Нет бы вот так-то окопаться и заглереть. Царственно, на века…
— А прогресс как же?
— Прогресс и беготня — разные вещи. Белке, когда она колесо крутит, тоже ведь, наверное, кажется, что куда-то она мчится, к какой-то цели заветной.
— У тебя хандра, Юра. От жары это. Пройдет.
После купания я почувствовал себя превосходно.
Голова совсем прошла. Я забыл, зачем я здесь и как оказался на этом пляже. Не хотел ни о чем думать и вспоминать. Сидеть, играть в картишки, перехватывать лукавые взгляды, в которых не могло быть подвоха, — какая удача, чудо! Вернусь в Москву загорелый, как эфиоп. Приду к Перегудову, скажу… Стоп.