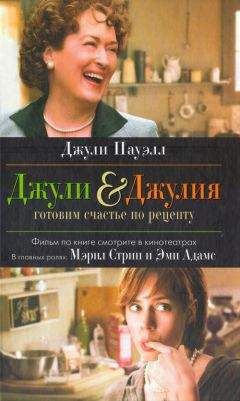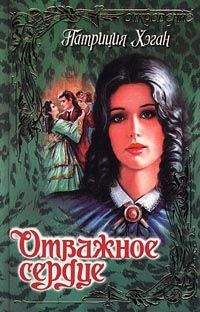Николай Веревочкин - Белая дыра
Тьфу ты, жалость какая!
Чем красивее существо, тем недолговечнее.
— Что-то я сегодня проголодался, — сказал в глубокой задумчивости Охломоныч, — а на голодный желудок не дело вешаться.
Игуаныч промолчал. Лично он относился к еде, как и к любым другим вредным привычкам — алкоголю, табаку, наркотикам. Лично он не ел уже три месяца.
— Ишь разгалделись! — осудил Охломоныч поведение воронья. — Повесишься, а они тебе как раз и глаза выклюют. Мало приятного.
Он поднялся на ноги, подергал веревку. Поделился сомнениями:
— Уж больно коротка. На такой вешаться замучаешься. Зря я отдал Педровичу складешок. Хороший был сладешок. Вставай, Игуаныч. Идем, покажу я тебе свою машину. Таких машин еще не бывало. Идем. Картошки отварим. Или ты печеную больше уважаешь?
На полпути к Новостаровке дорогу Охломонычу и Фоме пыльной кометой пересек внедорожник.
Мощный, приземистый, как черепаха, колеса широкие, как гусеницы. Такой машине, хоть по пашне, хоть по грязи. Что твой бронетранспортер. И при этом скорость — гаишники хрен догонят. Над головой водителя люк. На носу антенна, как рог носорога. Так и хлещет из стороны в сторону.
Уж кто-кто, а Охломоныч знает толк в машинах. Это тебе не мерседес какой-нибудь, похожий на беременного таракана. Это машина для наших дорог.
Промчалось это чудо мимо, как смерч, да вдруг остановилось. Встал джип, как вкопанный, и — резко, на такой же бешеной скорости — сдал назад.
Дождался водитель, пока пыль схлынет, и дверцу раскрыл, как объятия:
— Здорово, Тритон Охломоныч! Откуда путь держишь?
Это, оказывается, Эвон Какович, буржуй сопливый. Тыкает, как одногодку.
— Да вот вешаться с товарищем ходили, — степенно отвечает Охломоныч.
Эвон Какович откинулся на сиденье и расхохотался. Громко, но без особого веселья.
— Вешаться, говоришь? И далеко ли ходили?
— В Бабаев бор.
— А вот это дудки! В Бабаевом бору с сегодняшнего дня вешаться без моего разрешения нельзя.
— Это почему так?
— А потому, что это теперь мой бор.
— Как это твой? Тоже мне шутки.
Эвон Какович не ответил, а, слегка поморщившись, спросил:
— Что это у тебя с одеждой, отец?
Видать, хочет в машину пригласить, да стесняется.
— А что с одеждой? — с удовольствием осмотрел себя Охломоныч. — Одежда как одежда. Красных пиджаков не носим.
— Я в смысле, типа, не очень чистая.
— Ну, так болото оно и есть болото, — не очень внятно объяснил Охломоныч.
— Ну, а как жизнь вообще? Как Новостаровка? Все вверх трубами стоит?
Этот вопрос был как пароль, а всегдашним отзывом было: «И так, и сяк, и наперекосяк». Правда, в последнее время новостаровцы добавляли: «…и мордой об косяк».
— А с работой как?
Охломоныч махнул рукой:
— Работа у одного Дюбеля. Он экскаватор приватизировал и могилы роет. Работы много.
— Понятно, — с удовлетворением потер руки Эвон Какович. — Значит, соскучился народ по работе?
— Народ по зарплате соскучился, — уточнил Охломоныч.
— Будет и работа, будет и зарплата. Топор в руках не разучился держать, отец?
Ты посмотри на него! Прямо барин с крепостным соизволили милостиво побеседовать. Хоть в ноги падай.
— Как там Эндра Мосевна? — перевел разговор на личные темы Охломоныч, опасаясь оскорбить зятя словом.
— А что Эндра Мосевна? Нормально. От пенсионеров отбоя нет. Сразу два наперегонки сватаются. Один — герой труда, другой — герой войны. Не знаем какого героя выбрать. Ты-то кого посоветовал бы?
И пошел ни к чему не обязывающий треп со взаимными подковырками, когда собеседники вроде бы и улыбаются друг другу, но каждый думает про себя, как бы найти предлог для прощания.
Эвон Какович вел себя со снисходительностью пришельца из высшего мира. Охломоныч и раньше не испытывал особо теплых чувств к зятю. Есть такие дети, которые стесняются своих родителей, ни с того ни с сего считая себя умнее их. Особенно же испортились отношения с тех пор, как зять забрал к себе Эндру Мосевну. Хотя, конечно, главную роль в этом сыграла Пудра Тритоновна, коварная дочь. Сказать по совести, Охломоныч и сам бы переехал в Тещинск, если бы его уважили и позволили перевезти с собой дело всей жизни — недостроенный ВЕЗДЕЛЕТОПЛАВОНЫРОНОРОХОД. Но именно Эвон Какович высказал по этому поводу полное неуважение: «Да кому нужен этот металлолом?». Тем самым показав, что считает тестя пустым человеком, растратившим жизнь на пустяки. Да и сейчас ведет себя неправильно. Мало того, что барина корчит, он еще от Фомы Игуаныча нос воротит, делает вид, что того и в природе нет. Что ему с человеком-то познакомиться? Беспокоится, буржуй сопливый, как бы сиденья ему не запачкали.
Так нехорошо подумал Охломоныч о муже собственной дочери, а тот возьми да скажи по-простому:
— Сидаун на плиз, мужики.
Но потом сморщился, как от изжоги, и добавил хмуро:
— Только на сиденье подстилку набросьте. В багажнике. Ту, что потемнее.
Поехали. Музыка тихо играет. Мотора почти не слышно. Так, вроде время от времени конь вздохнет, да вьюга в трубе гудит. И такая мощь в этом беззвучии чувствуется, что сердцу радостно. А тряски почти никакой. Это на старой-то новостаровской дороге! Будто на воздушной подушке. Как в лодке по волнам. Так хорошо чувствовал себя Охломоныч, лишь когда качался в люльке. И воздух в машине какой-то особый. Вроде как не наш. В меру прохладный, пахнет чем-то приятным, но, опять же, не нашим. А, может быть, это Эвон Какович надушился. Весь холеный, розовый, как младенец. Уши на солнце просвечивают. И говорит снисходительно:
— Удивляюся я на вас, мужики. При таком богатстве и в такой нищете по уши живете.
— Это где же ты богатство-то увидел?
Эвон Какович небрежно махнул в сторону Бабаева бора.
— В том-то и дело, что не видите. Сколько древесины зря пропадает. А в нашем степном краю древесина — золото.
— Сказал тоже — древесина. Эх, ты, буржуй недоделанный!
Тритон Охломоныч хотел ответить похлеще, но так и задохнулся от сложных чувств.
В свое время он два года заграницей служил и полстраны объехал, но ничего лучше озера Глубокого да Бабаева бора видеть ему не доводилось. Вроде, да, красиво, и деревья повыше и вода посветлей, а не по сердцу. Это же тебе не просто лес да озеро. Это же ты и есть. И соленые бирюзовые волны Глубокого, его камышовые заводи, белые дюны, поросшие талой, и ровный шум Бабаева бора, грибной запах, поляны дикой вишни — это же часть тебя. Что ты без них? Так, вроде бы и не Охломоныч. Существо. Бомж. Ишь, ты! Древесина…
— Так ты что — порубить все ЭТО хочешь? — со зловещим спокойствием спросил Охломоныч.
— Если не я, то кто? — задорно ответил зять, бывший комсомольский работник.
— Тогда начинай с меня. Руби под самый корешок.
— Да ты не горячись, отец. Ему так и так хана. Вы же сами его на дрова и изведете. Котельная-то не работает? Уголь не завезли? И не завезут. Коммунизм кончился. А зимой-то не в берлогах живете? Порубываете самовольно мой лес?
— Да зачем нам его рубить? — удивился Охломоныч. — Вон сколько брошенных домов стоит. Разбирай да топи.
— Эх, мужики, мужики, — тоном мудреца, уставшего презирать несовершенства мира, молвил с печальным вздохом Эвон Какович. — Это ж надо додуматься — печи домами топить! Экономика…
— Брошенными домами, — уточнил Охломоныч и добавил, помолчав. — Все не реликтовой сосной.
— Ну, сосной топить никто и не собирается, — обиделся предприниматель. — Сосна — прекрасный строительный материал. Топить будем сорными породами — береза, осина…
— Береза, осина — сорные породы? — возмутился Охломоныч. — Останови машину? Ишь ты! Сорные породы! Ты когда в последний раз дикую вишню ел?
— Ну, при чем здесь, Тритон Охломоныч, дикая вишня? Какая собака вас сегодня укусила?
Охломоныч, удивленный провидением зятя, замолчал и больше не просил в знак протеста остановить машину.
— Так что, Тритон Охломоныч, — тоном великодушного победителя подвел черту Эвон Какович, — точи топор. И работа будет, и зарплату гарантирую. Только сразу не отказывайся. Минут пятнадцать помолчи, обдумай, а потом уже говори.
Остаток пути Охломоныч смотрел в чистое, как будто бы его совсем не было, иностранное стекло, к которому отчего-то не приставала здешняя, новостаровская пыль, и думал: зря он все-таки не повесился. Скоро и вешаться не на чем будет. Он представлял деляны на заветных местах, и от этого становилось совсем тошно. У каждого из этих лесных секретов было свое название, каждое оберегалось от других грибников и ягодников. В одном уголке в сырые годы водились лисички, в другом — нигде не было, а здесь были всегда белые грибы, в третьем — маслята, в четвертом — грузди. Знал он и вишарник, где никто никогда не срывал ягоды недоспелыми, потому что никто, кроме него, не бывал там. Дикая вишня величины и сладости необыкновенной. Мясистая, сочная. Боярышник янтарный. Черемуха. Красная и черная смородина. Земляника, костянка. Чего только не было в этом бору.