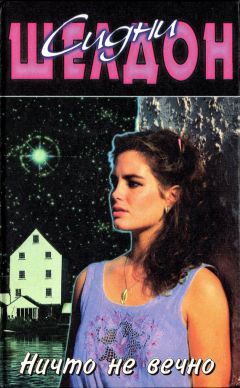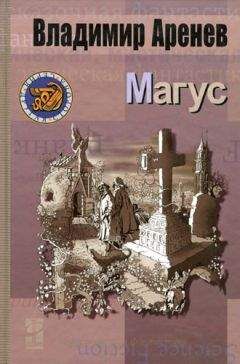Николай Гарин - Таежная богиня
Никита достал сигареты и закурил. Сделав длинную затяжку и выпустив дым в черное небо, с азартом продолжил:
— Почему, когда мы смотрим на врубелевских “Испанок”, помимо их яркой красоты видим саму Испанию, с корридами, танцами, азартом, огнем и страстью... Или его “Демон”!.. Я, например, когда смотрю на это произведение, то вижу, как вздымается его грудь, как перекатываются мускулы, как разгорается огонь в его глазах, чувствую, как до взрыва осталось мгновение. Каждый квадратный сантиметр, каждый мазок, пятно, точка дрожит, дышит, живет. Вот в чем гениальность художника, он передал нам вечное движение, вечную жизнь. И мы знаем, кем был и как жил этот гений.
— А как?!
— Расскажи, Никита...
— Я могу рассказать только то, что широко известно, так сказать, энциклопедические данные. Врубель — это гигант, это, — он посмотрел на силуэт Денежкиного Камня, — огромная гора, для нас недоступная. Природа его творчества странная и... безумная. Врубель — это модерн конца девятнадцатого — начала двадцатого столетия, — тихо и задумчиво продолжил Никита. — Я имею в виду, стиль модерн. Главным художником модерна, мастером эпохи Серебряного века называли его тогда. Сегодня бы сказали арт-звезда. Знаковое имя. Всех и всегда подкупали две черты творчества Врубеля — изысканная декоративность и литературность...
Валерия смотрела на Никиту зачарованно. Когда Гердов начинал говорить об искусстве, она прощала ему все. Ей страшно нравилось, как, казалось бы, вяло, лениво, слегка растерянно и небрежно Никита начинал свой монолог. Однако очень скоро преобразовывался. Лицо краснело и становилось непроницаемым. Глаза вспыхивали каким-то болезненным светом. Он как-то ощетинивался, группировался, как перед дракой, бросал агрессивные взгляды по сторонам. Как самец защищает свою самку, так Гердов защищал искусство. Валерии безумно хотелось, чтобы вот так, с такой же страстью и отчаянием он любил ее. Оберегал, бросался на врагов и рвал их на части...
— ...Каждый мазок мастера живописен и сияюще мозаичен. Вспомните его “Сирень”, — продолжал тем временем Никита с горящим взглядом, забыв, что перед ним не коллеги-художники и даже не студенты какого-нибудь творческого вуза, а крепкие парни-геологи, для которых тонкости живописи так же далеки, как для оратора особенности химического анализа какого-нибудь известного минерала. — Уже в дипломной работе “Гамлет и Офелия” у Врубеля проявляются первые душевные метания. Выбор сюжета двусмыслен и неясен. У него маниакальное нежелание сделать последний мазок. “Гамлет” так и не был закончен. Потом “Демон летящий”, “Шестикрылый Серафим”... и все это при болезненном состоянии... После тысяча девятьсот четвертого года он не выходит из психиатрической лечебницы. Постоянные приступы меланхолии... — у Никиты сорвалось дыхание. Он опять сделал паузу. Долго молчал, но никто из слушателей не решился даже пошевелиться. Было странно и непонятно, а от этого чрезвычайно интересно.
— Надо видеть его работы, — скрипуче и бессильно договорил Никита и потянулся за сигаретами, — говорить можно долго и много, но сначала надо видеть его, чувствовать, ощущать...
— А ты-то сам что ищешь, чего хочешь?! — осторожно спросил Виталий Павлович.
— Что я хочу... — задумался Никита, — не знаю, наверное, чего-то необычного. Хочу, например, жить... вечно! — неожиданно проговорил он. — Поэтому и ищу вечную жизнь в искусстве. Она в гармонии, а гармония в красоте! Гармония — это Ее Величество Мера, когда необходимо и достаточно, это равновесие противоречий. В красоте, мне кажется, нет и не может быть лишнего, как и недостатка чего-либо. Но в то же время я прекрасно понимаю, что красота как горизонт, сколько к нему ни иди, он так и останется горизонтом. Красота — это недоступность!..
Никита замолчал. Молчали все, зябко поеживаясь то ли от сырости, которая шла от реки, то ли от того, что сказал Никита.
— А как же быть с гениальностью художника?! Это что?! — нарушил паузу Сосновский.
— Гениальность, — нехотя и устало повторил Никита, — это когда ты видишь и чувствуешь то, что никто другой не видит. Это что-то запредельное. Есть такое понятие — социальная структура. Это законы, правила, традиции, это обычное, обыденное, усредненное, и выйти за эти рамки — подвергнуться осмеянию, да и как выйти, если ты и есть часть этой структуры. Разумеется, можно написать еще более профессионально, ярче, остроумнее и талантливее, но не гениально. А чтобы из ряда вон... надо выйти из этой структуры, перешагнуть через ее границу... А это незаурядная отвага, смелость и отрешение, а точнее... — сумасшествие!
— Но это не научное рассуждение.
— Правильно! А я и не говорю о науке. Наука что — прогноз на основе анализа факторного материала, это аргументы. Как сказал некогда Гете, в науке мы можем только знать, как произошло что-нибудь, а не почему и для чего. Искусство — это чувства! Чувства всегда впереди. Они опережают науку. Мы сначала чувствуем, а потом анализируем, и это крайне важно. Наука по ритму отстает от искусства, как черепаха от пули.
— По-вашему, художник больше, чем ученый?!
— Ну я бы вообще не сравнивал эти понятия. Художник и искусство вне игры, что ли. Искусство везде и во всем, оно Дух! Один мой знакомый сказал, что художник — это посредник между Богом и людьми... Поэтому все, что художник выдумывает, придумывает, фантазирует, — это от Бога. Срисовывает, передает цвет, композицию и так далее — это от науки.
— Ну, уважаемый, вы и загнули. Ишь куда себя причислили. А как быть, если нам нравится Шишкин, Айвазовский, Васильев, наконец.
— И хорошо, что нравится. Я рад. Но вы познаете познанное. Вам комфортно слышать знакомую мелодию, вам это приятно. А новое, что не уложилось еще в вашей душе, вы не принимаете, пока это новое не будет принято всеми остальными. Позиция известная и всеобщая. Но представьте себе, что вы все время слушаете одно и то же. Или смотрите на одно и то же, едите одну и ту же еду. Я же хочу, чтобы человек открывал с моей помощью мир. Тот мир, который он никак не увидит и не почувствует без моей помощи. Мы, художники, открываем помимо известного всем белого и черного еще и полутона. Поскольку жизнь и состоит из полутонов. Есть такое изречение кого-то из древних: “Красота — свет истины, который приходит к нам через материальное”.
С похода на Денежкин Никита вынес три вещи: чувство масштабности, вечности и запах багульника.
Ивдель. Вижай. Ушма
Когда Никита услышал про готовящийся поход студентов в район Отортена, сразу потерял покой в прямом смысле слова. Но страстного желания оказалось мало. После экспедиции на Денежкин на Никиту неожиданно свалилось столько дел, что он едва успевал с ними справляться. Мать затеяла ремонт квартиры и просила помочь. Сильно сдала бабушка. Надо было где-то зарабатывать деньги. Лежали неразобранными, нерасшифрованными отцовские бумаги.
В конце октября подвернулась “халтурка” — роспись панно в детском саду. Вот и закрутился Никита между работой, квартирой матери и больной бабушкой. Так в хлопотах и прошла зима.
Для Валерии же, напротив, зима получилась весьма плодотворной. Большая часть этюдов, зарисовок, эскизов, все, что она наработала в августе на Денежкином, превратилось в добротные, крепкие по ремеслу и весьма свежие по содержанию полотна. Картины поджидали своей окончательной доводки перед предстоящей первой персональной выставкой. Отец Леры запланировал ее на конец октября. Нужно было еще пять — десять подобных работ, и масштаб выставки даровитой молодой художницы никого бы не оставил равнодушным.
Одно волновало Валерию — здоровье. Которое, кстати говоря, она сорвала на Денежкином. Тогда Валерии удалось скрыть частые недомогания и боли в желудке, надеялась и на этот раз уговорить свой организм потерпеть. Поэтому в первую очередь пришлось собрать солидную аптечку из чудо-лекарств. К весне она была основательно готова к лыжному походу на север Урала.
В начале апреля утомленная дорогой, уставшая, но счастливая Валерия появилась в Сысерти. Она ввалилась в дом Никиты и бабушки, и те были искренне рады ее приезду. Весь день ушел на расспросы, воспоминания, разговоры о предстоящей экспедиции. Если Валерии было что рассказать, похвастаться, поделиться, то у Никиты все было по-прежнему. Все прошедшее время у него ушло на расшифровку отцовских записей, рисунков, схем и карт. Он остался таким же задумчивым, молчаливым и немногословным.
Два последующих дня ушли на сборы. А на третий вместе с двумя студентами-горняками выехали в Ивдель.
Ощущение беды у Никиты появилось сразу, едва поезд тронулся. Сначала его все крайне раздражало. Было что-то не так. И вагон — старый, дрожащий, скрипел, визжал, стучал, ходил ходуном. Кроме того, он был удивительно грязным, с устоявшимся запахом затхлости, который перебивался запахом горящего угля, идущим из топки, и курева.