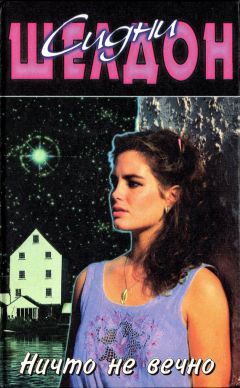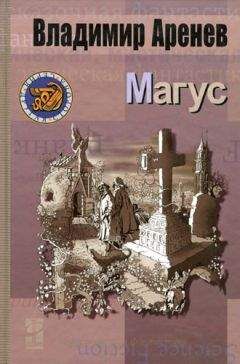Николай Гарин - Таежная богиня
— Этюдником, — моментально обидевшись на Гердова, сказала Валерия.
Никита работал. Встав с первыми лучами и ошалев от увиденного, не удержался, схватил этюдник и забыл обо всем на свете. Виды потрясли его. На фон фиолетовой горной гряды с рваным контуром вершин гармонично накладывались силуэт за силуэтом предшествующие ей отроги и сопки. Сначала шли скалистые, потом заросшие лесом и, как завершение многоплановости пейзажа, — сразу за рекой пышный ельник с колючими вершинками.
Изголодавшийся по работе Никита делал набросок за наброском. Он не чувствовал ни времени, ни усталости, ни голода. Однако постепенно творческий зуд стал спадать. Появились сомнения. Как бы он ни выстраивал композицию очередного этюда, все они походили на учебные работы, в них чего-то не хватало. Не было ощущения новизны, при несомненной экзотичности натуры попросту отсутствовала идея. Этюды с неплохими, как ему сначала казалось, крепкими планами, настроением, характером начинали его разочаровывать. Наконец, сложив в этюдник работы, краски и кисти, Никита удобно уселся на раскладной стульчик, неспешно закурил и задумался.
“Чего я хочу? Повторить виденное? Но это невозможно! Тогда что? Провести некую параллель. А что это за параллель? Искусственный, придуманный мир с пропущенными через себя ощущениями видимого мира. Да, я хочу, чтобы вот эта дивная природа со своим характером, строгостью и дикостью, со своим ритмом и настроением, звуком и запахом переселилась в мою голову, нет, не голову, наверное, а в сердце, как-то прочувствовалась и только тогда отразилась на холсте, зажила иной жизнью.
Например, воздух. Воздух материален, и безумно интересно это показать. В нем есть свет, движение, он насыщен оттенками тайги, гор, воды, звуков и, главное, мистических тайн. Как это написать? Как увидеть, поймать его ритм, загадочность? Импрессионисты чувствовали и понимали это, но искали интуитивно... А пространство?!” — Никита обхватил голову, застонал от бессилия.
Остаток дня он рисовал камни, поросшие лишайником, мох вокруг них, кору деревьев, дно реки, необычные травинки...
Однако рассуждения об искусстве, живописи и таланте художника Никите неожиданно пришлось продолжить в конце дня.
Обиженной невниманием Никиты Валерии хотелось доказать, что, во-первых, совсем не зря ее высоко оценили на дипломе, а во-вторых, ей не терпелось услышать, что скажет сам Никита по поводу ее набросков и первых этюдов. И как прореагирует первый зритель — целая команда геологов.
Если студенты вместе с преподавателем отметили Лерины работы гулом восхищения, то Никита рассматривал каждый ее этюд долго, внимательно и без каких-либо эмоций. После просмотра очередной работы он лишь мелко кивал и переходил к следующей.
— Ну, а что, — наконец повернулся он к Валерии, — совсем неплохо, дорогая, неплохо.
Но Лера не торопилась радоваться, она отлично знала Никиту и ждала, что за этим скупым “неплохо” может последовать разгромный анализ. Так и произошло. После небольшой паузы Гердов вновь вернулся к осмотру Лериных работ.
— Вот здесь, милая, явный перебор в средствах. Я бы несколько погасил рериховскую фиолетовость. Да и сместил бы центр композиции чуточку вправо, так, думаю, было бы динамичнее. А в этом месте, — переходил он к следующей работе, — очевидное противоречие, да и с масштабом что-то не совсем...
Зрители затихли. Они с удивлением и сочувствием поглядывали то на приунывшую девушку, то на сурового Никиту. Им было не совсем понятно, почему тот так строго судит Лерины работы. Им казалось, что наброски девушки удивительно яркие и точные.
— А эту и, пожалуй, эту работу я бы вообще переделал, — продолжал резать по живому Никита, — безлико, невыразительно и банально. Очень наивен передний план...
— Никита, — не выдержал Виталий Павлович, которому все работы Валерии чрезвычайно нравились, — объясни, пожалуйста, а как должно быть, если почти все работы ты бракуешь.
— Ну, во-первых, я всего лишь высказываю свою точку зрения, а во-вторых, чтобы объяснить, потребуется много времени, двумя словами не обойтись. Если, конечно, вам интересно.
— Интересно, и даже очень. Времени у нас навалом, так что просвети нас, темных и дремучих, может, мы совсем не так понимаем искусство. Для меня, например, многие работы Леры — просто шедевр. Срисованы точно.
— Вот-вот срисованы, причем точно. А надо не срисовывать, а написать.
— Поясни...
— Хорошо. Скажите, пожалуйста, — начал свое объяснение Никита, — чем вас не устраивает современная фотография? Если, как вы говорите, главное схожесть, точная и достоверная передача ландшафта, то это легко сделает именно фото или кинолента.
— Ну, фотография — это другое... — растерянно проговорил кто-то из студентов.
— В ней нет художества! — добавил кто-то еще.
— Но есть такое понятие, как художественная фотография.
— А я думаю, сравнение с фотографией довольно уместно, — задумчиво продолжил кто-то из аспирантов, — фотография — это фиксация момента в конкретном месте и в конкретное время. Едва ты нажал на кнопку, как то, что ты снял, стало прошлым. То, что было секунду назад, умерло, запечатлевшись на пленке. Едва снял — и уже в истории. Да, она ценна, точно так же, как ценны черепки прошлых культур. Это документ, если хотите.
— Конечно, есть художественная фотография, но тут я слаб, что-то не могу понять, в чем ее художественность... — добавил осторожный голос.
— А я думаю, — горячо подхватил кто-то еще, — что разница между живописью и фотографией в количестве энергии. У фотографии чисто техническая и химическая энергия, а у полотна энергия художника, которая как бы перетекает через руку, кисть и краску на полотно.
— Ну да, — раздался еще один голос, — фотография — это всегда прошлое, а некоторые старинные полотна современны, и это будет, наверное, всегда.
— Сам-то ты что скажешь, Никита? — Виталий Павлович подсел ближе к Гердову.
— Так вы все правильно говорите, — осторожно начал Никита. — Но я бы поговорил сначала о другом, более близком вам материале, что ли.
— Ну что ж, попробуй.
Никита взял хворостину, пошевелил ею угасающие угли и сдвинул брови.
— Не сомневаюсь, что среди вас нет ни одного, кто бы не читал “Каменный цветок” Бажова. Я недавно перечитал его, и только сейчас до меня дошла гениальность сказа. Каменный цветок в нашем понимании не может существовать в принципе. Читая слово “цветок”, мы ассоциируем его с живым цветком. Но ведь “каменный цветок” — это физическая суть, природная красота самого камня. Данила-мастер не мог создать цветок из камня, потому что он думал, как и все мы. То есть мастерил некую аналогию живому существу. И бился изо всех сил, пока не встретил Хозяйку Медной горы, которая решила показать ему каменный цветок. Данила уходит с Хозяйкой под землю навсегда. Стало быть, каменный цветок или красота камня существует только в своей каменной сути. Мы же смотрим на камень с прикладной, утилитарной точки зрения и создаем из него банальные шкатулки, бусы или вазочки, не открывая его истинной красоты. Делаем срез малахитового самородка один, другой, третий, и каждый раз рисунок новый. А какой должен быть главный, истинный рисунок? Где его настоящая красота?
Никита замолчал. Давно стемнело. Люди, вобрав головы в плечи, точно провинившиеся школьники, продолжали сидеть, не отрывая глаз от малиновых углей умирающего костра.
— Что я этим хотел сказать, — после паузы продолжил Никита, — мне кажется, что все мы, все без исключения, весьма приблизительно и примитивно понимаем искусство, а в нем красоту. Часто мы любой творческий процесс готовы выдать за искусство, а это не одно и то же. Творчество от природы интуитивно, самодеятельно, лишь в творчестве мы познаем и понимаем гармонию. А искусству можно обучать, оно профессионально, в его основе умение, ремесло. А в творчестве — мышление. — Никита опять замолк, как бы давая слушателям “прожевать” сказанное. — Это не я сказал, а великолепный художник, ханты по национальности, Геннадий Райшев. И в этом сравнении творчества и искусства я с ним согласен. Для меня картина, которая пишется с натуры, — Никита кивнул в сторону притихшей Валерии, — не может и не должна быть копией этой натуры. Это невозможно. Настоящий, талантливый художник создает вымышленный, а стало быть, таинственный мир, и по-другому нельзя. Как можно, к примеру, избежать показа главного — пространства, насыщенного воздухом, запахами, звуками, пронизанного тайнами и мистикой?! Все это послойно лежит в такой невидимой и видимой структуре, как ритм. Это как у человека или животного при зарождении начинает биться сердце. Именно ритм дает гармонию, дает движение, вечное движение. После этого произведение живет своей жизнью, самостоятельной, загадочной. Так что картина — придуманный, искусственный и небывалый мир. А не копия существующего, который нельзя повторить, да в этом и нет необходимости, поскольку он и так уже есть. Я о настоящем произведении искусства, о гениальном.