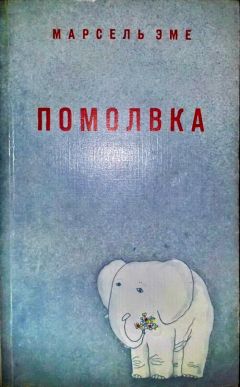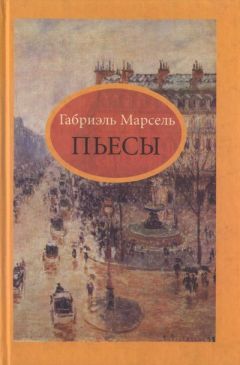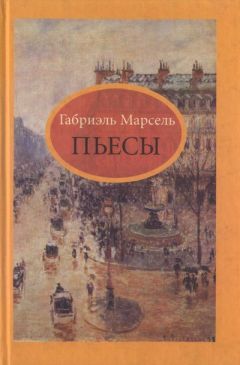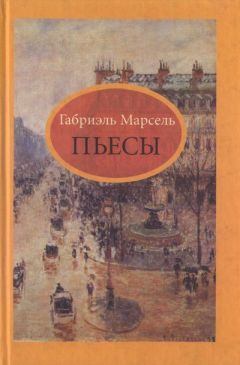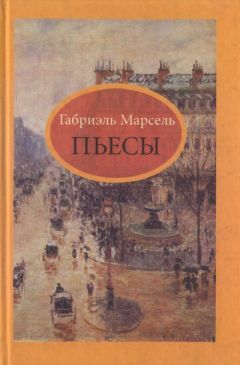Нодар Джин - Учитель (Евангелие от Иосифа)
И вообще это — глупое занятие…
В отличие от тела, губы у Валечки были размягчены, но влажным оказался не только рот. Она застонала, и я увлёк её к дивану.
И тут она вновь прервала меня. Опять удивила: потянула властно за руку и, не пустив на диван, усадила на стол.
Теперь я оказался гораздо ниже неё, но это меня обрадовало: сердце моё затрепыхало в горле, и я зарылся головой в ложбинку между её сиськами. Вкусными и мягкими, как тёплый хлеб.
Вместе с этим чувством в меня проник сиреневый дурман. Я замер. Но губы — в лихорадочной привычке любви — задрожали от бессилия пробиться сквозь плотную эмульсию кожи в самые недра её жгучей плоти.
Как всегда, недостижимость этой мечты подняла во мне и боль, и ярость.
Я стал терзать Валечку зубами, ощущая себя продрогшим волком. Изголодавшимся по любви и настигнувшим наконец великолепно беспомощную добычу.
Валечка понимала это и подвывала, как хищница. А когда убедилась в невозможности раздвинуть себе грудину и впустить меня вовнутрь, — оттянула мою голову и протолкнула мне в губы свой разбухший сосок.
Опять вдруг вспомнился Мао. Он говорил, что один китаец прожил 170 лет, высасывая сок из женской груди.
Я жадно набил себе рот упругой плотью — и острый её кончик уткнулся мне в гортань. Я задыхался.
Валечка, тем не менее, старалась протолкнуть себя в моё горло глубже. Она тоже желала недостижимого — исчезновения во мне в сладких муках пожираемой жертвы.
Рвался к тому же самому и я — всю её искромсать. И напиться до одури горячей крови, переполнившей этот белый, гладкий и ароматный сосуд. В который упряталась жизнь…
— Иосиф! — всхлипнула она. — Как же ты меня любишь, Иосиф! Чего же ты ждёшь?! Убей же наконец!
В голову мне ударил жар — и я изо всех сил впился пальцами в её ягодицы. От нетерпения они затвердели и подрагивали.
— Слышишь, Иосиф? Как же мы любим друг друга! Убей, говорю, миленький мой, убей же меня! — молила она, лаская мне губами затылок.
То ли жертвенный тон шёпота, то ли искренность слов растопила мне сердце. Превратила его в вязкий сгусток из радости за себя и нежности к прижавшейся ко мне плоти.
Поддерживая Валечку левой рукой, правую я занёс ей под живот, и прижал ладонь к подстриженному пушку. А пальцы — без моего ведома — поползли вниз. Она вскрикнула от счастья, пригнулась ко мне и поблагодарила взглядом.
Из головы моей снова высунулось помышление о французском каталоге. Сейчас подсказало его мне ощущение.
Валечка мысль мою разглядела, но недопоняла: бросилась на колени и стянула с меня кальсоны. Через мгновение самый бесстыжий кадр из каталога задвигался перед моими глазами. Точнее — под ними…
Мне это всегда казалось гадостью. Особенно после Кракова — до революции, — где проститутка пересчитала мои злотые, отказалась раздеться и присела на корточки.
Я выругался, пнул её ногой, забрал деньги и объяснил, что природа создала рот для другой цели.
У каждого органа — своя функция. И в человеке, и в государстве. Нельзя, например, поверить в идею, которая родилась не в голове, а в заднице.
То же самое я говорил большевичкам. Они в ответ называли меня азиатом и смеялись. Мы, мол, раздвигаем рамки природы. Раздвигайте ноги, а не природу, советовал я. Оправдывались тем, что не хотят рожать. Не рожайте тогда и пошлые идеи.
Крупскую я презирал и за то, что не родила Вождю детей. Раздвигала только природу…
Когда я оправился от шока, пришлось подумать и о большей гадости. Истомина — и это уже точно — шарит в моём столе!
Неясно теперь другое: кто, как, где и почему добыл для неё сетчатые чулки?
Вопреки ожиданию, мне было хорошо! На потом, на будущее, захотелось отложить и дыхание. И это чувство показалось чреватым великою истиной. До смеха простой. Как бы устроить, чтобы дыхание человечество отложило на потом? И чтобы откладывало постоянно. Тогда бы люди не знали ни голода, ни забот. И всем было бы хорошо…
Валечка вдруг оторвалась от меня и подняла глаза. Обратилась снова по отчеству:
— Иосиф Виссарионович, вам хорошо?
Я промолчал, но ждать ответа она не стала. Это и огорчило меня: уверена, значит, что хорошо. И хотя мне снова стало хорошо, к прежнему ощущению я вернулся не сразу.
Досаду разогнал помышлением: в этом деле люди открыли не всё. И главное впереди. А может, и позади — в забытой древности, когда, говорят, любовь занимала в жизни центральное место.
Ощутив, однако, возвращение прежнего чувства, я напомнил себе, что пора прекратить размышления. Умничать о чувствах — глупо. Смысл уничтожает удовольствие.
— Да, Валечка! — ответил я наконец. — Мне хорошо!
Она встрепенулась и стала пуще стараться. Огорчило теперь и это, ибо радость в моём теле стала захлёбываться и поспешать к концу.
В этом деле беда в том, что радость заканчивается. А стремиться надо к тому, чтобы обойтись без конца. После триумфа делать нечего. Настоящая радость заключается в его ожидании. Чем дольше ждёшь, тем лучше. Идея конца обеднила это дело.
Если бы не дверная ручка, от быстрого конца не уберегло бы меня ничто. Кто-то её снаружи дёрнул — и я в ужасе оттолкнул Валечку. К моему удивлению, она была невозмутима.
— Иосиф Виссарионович! — шепнула. — Не волнуйтесь, миленькие вы наш! Я же дверь сразу и заперла!
Теперь огорчило, что она вновь перешла на «вы» и отчество.
Так вела себя и Надя. И тоже огорчала.
В любви мужика следует уважать только за любовь. А если в любви уважаешь его и за другое, то ему непонятно — уважаешь ли его за любовь.
Я не понимал Надю. Но Валечку сейчас понял легко, поскольку обычно в такие минуты она говорила мне «ты».
Человек, рассудил я, не должен потреблять счастья больше, чем производит. Прежде, чем упасть на колени и спустить мне кальсоны, Валечка и сегодня говорила «ты». И была счастливая. А внизу особой радости для себя, видимо, не нашла…
— Умница ты! — улыбнулся я. — Что дверь заперла.
Она тоже улыбнулась, отбросила с губы повисшую над ней золотую прядь и вздохнула — запаслась воздухом. Но я поднял её с колен и заглянул в глаза. Так и было: мутности в них убавилось.
21. Правильное тоже нуждается в исправлении…
Дальнейшее произошло не совсем как прежде, хотя со стороны выглядело так же. Я увлёк Валечку к дивану, снова припал к её соску, а потом лёг и усадил на себя.
В отличие от прежнего, живот мне щекотала теперь кисточка от золотистой тесёмки, но она ни при чём. Хотя щекотка мне нравилась. Как нравились на ощупь и сетчатые чулки. Дело в другом.
Обычно, когда Валечка начинала невольно торопиться, я сдерживал себя и растягивал время тем, что, во-первых, заставлял её привстать и сесть на меня заново. Ко мне спиной. А во-вторых, поскольку теперь вид открывался не только на спину, я — из воспитания — отводил взгляд.
На стенке висели портреты. Четыре — не считая Ильича и Нади. Маяковский, Горький, Бедный и Шолохов. Ильич и Надя с дивана не проглядывались. Висели поодаль, отдельно от писателей. Легче всего было смотреть на первых двух.
Из Маяковского вспоминалась, как правило, начальная строчка в «Хорошо!» Название как раз ни при чём. В этой строчке про время сказано действительно неплохо: «Время — вещь необычайно длинная.»
После этих слов я часто вспоминал, что Маяковский погорячился. Самоубийство — это навсегда. На всю длину времени. И важнейшие вещи происходят уже в твоё отсутствие. Умереть — это не всё. Умереть надо вовремя. Как можно позднее.
Потом из головы моей спускалась короткая лесенка:
Я хочу быть понят родной страной.
А не буду понят, —
что ж!
По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь.
Тоже хорошо, но зачем придавать такое большое значение пониманию страны?
Часто вспоминалось и из Горького.
Один и тот же очерк. Называется «Вывод».
Название тут тоже ни при чём. Усаживая Валечку, я вспоминал не название, а конец: затейливый волжский мужик, узнав об измене жены, обмазал её дёгтем и посадил на муравьиную кучу…
Горький тоже был волжский мужик. И ему тоже изменили. Секретарша. Но он — ничего. На насекомых её не сажал. Только — как я Валечку. А он и не имел права сердиться. Она была баронесса, а он поселил её к себе с женой. Он бы и ещё кого-нибудь поселил, но утешил себя тем, что у этой баронессы была тройная фамилия: Закревская-Бекендорф-Будберг.
В этот раз, однако, в глаза мне полез Шолохов. Видимо, я всё ещё сердился на американца. Как в своё время — и за то же — на Шолохова. В начале «великого перелома» он прислал мне жалобу: на Дону коммунисты «коллективизируют» крестьян грубо, а с врагами обходятся садистски.
Шолохов — хороший писатель, а американец — плохой. У того к тому же правые взгляды, а у Шолохова — правильные. Но иногда правильное тоже нуждается в исправлении. И я написал ему, что хотя «докатившиеся до садизма» будут наказаны, надо «видеть и другую сторону дела».