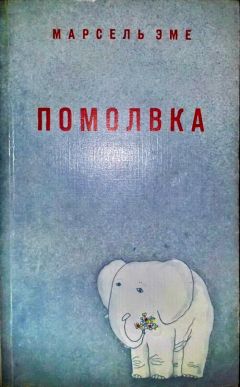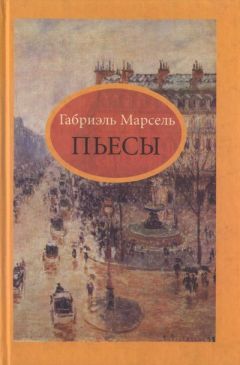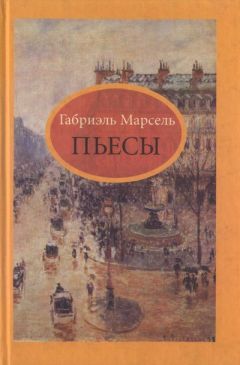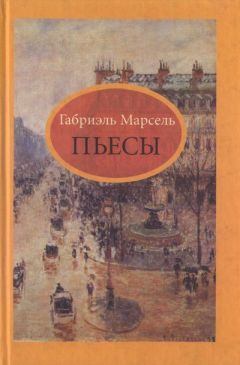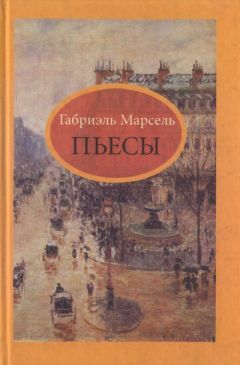Нодар Джин - Учитель (Евангелие от Иосифа)
Лейб понимал, что рядом со мной иранский шах, как выразилась Валечка, никто. Но он прав: даже победивший вождь — муравей и «серая клякса».
Если бы я, однако, был лишь «серой кляксой», меня бы не мучило одиночество. Хотя моё одиночество — плата за небесное позволение переделывать землю.
Но я пока не об этом. Я о том, что мир вполне может обойтись без людей.
На каждого человека приходится 2 миллиона муравьёв. И ни один из них ни в чём не сомневается. А почему? Кто научил их жить без сомнений? Не знает этого даже сам муравей, ибо он тоже — «серая клякса».
Всё в этом мирозданье ничто. Всё появилось не ради себя. Может быть — просто для забавы.
Тот же писатель Шоу говорил мне, что бог создал муху в премудрости своей, но забыл — почему. И ещё — будто в Англии центром семьи является лошадь. Но если бы то же самое сказала лошадь, я бы не рассмеялся. Погнал бы её, как дуру. Потому, что даже в Англии и даже лошади родятся по посторонней воле.
Где эта воля и как она выглядит — с пейсами или усами, — никому невдомёк. Хотя имя ей придумали: бог. Могли — любое. Скажем, «серая клякса». Какая разница — каким звуком что назвать? Всё равно на главный вопрос не ответить. А поэтому ответы на другие вопросы рождают сомнения.
А вот главный вопрос: по какой такой посторонней воле всё случается? И ради чего? Почему так устроено, что муравей знает — чего хочет, а человек нет?
Потому ли, что человеку впихнули в череп мозг, как часы в пах польскому шахтёру? А почему мозг оказался нужен? Для того ли, чтобы задавать вопросы и во всём сомневаться? Почему, например, человек не был создан муравьём, а муравей человеком?
Это не из дурацких вопросов, а из самых нужных. Иначе забываешь, что ответов у нас нету, и мы не вправе выносить конечные суждения.
Дурацкими бывают только ответы. Вопросы — нет. Раз появился мозг, а в нём эти вопросы, значит, они чему-то служат. Хотя бы пониманию, что кроме как по-дурацки на них не ответить.
К чему я это?
К тому, что несмотря на всё, — не скажешь ведь: остановите землю, я хочу выйти! Кто её для тебя остановит? Даже если хочешь пописать. Приходится жить…
Вот мы строим социализм. Хорошая идея?
Не человек создал мозг. И раз уж туда пришла эта мысль и она многим нравится — отменить её невозможно.
Никто определённо не знает — какая мысль истинна, а какая нет. Люди, однако, хотят не знаний, а определённости. Поэтому те, кому эта идея нравится, называют её истинной.
Я, например, уверен, что раз уж мир создали не мы, «серые кляксы», то ничего в нём принадлежать нам не должно. И праведным я считаю такой океан клякс, где ни одна ничем, кроме себя, не владеет. И все равны.
Но есть и другие идеи. Они тоже многим нравятся. Много и идей. Но все сводятся к тому, что хотя никто этот мир с собой не уносит, он — наша собственность. А собственность, мол, надо делить.
Вся история — это история привычки владеть и делить. И привычка эта настолько сильная, что либо она и есть самая сущность «серой кляксы», либо кажется таковой.
Я считаю, — кажется. И считаю, что посторонней воле эта привычка не нравится. Иначе не была бы дана была мне, «серой кляксе», такая власть над другими.
Люди полны дерьма, но я верю в народ. Его можно схватить за яйца, скрутить их, а потом больно сдавить — и заставить с этой привычкой расстаться. Человек — блядь, но его можно заставить вернуть себе девственность. К смирению ведёт сила, которую обретаешь в страхе…
К чему же теперь это?
А к тому, что Лейб — когда проиграл мне — сочинил против меня афоризм. Цель, мол, оправдывает средства до тех пор, пока что-то иное оправдывает цель. Но кто с этим спорит?! Не я. Да, страх — это средство, а смирение цель, но эту цель я уже назвал. То есть, не я — эту цель открыла мне иная сила, но говорить о ней неловко. Когда говоришь о ней, люди считают тебя чокнутым.
Однажды, вернувшись домой под утро после пьянки, отец стал ругаться из-за того, что я не сплю. Я признался ему в страхе, что всю ночь шептался с богом. Он выкатил глаза, а потом махнул рукой и буркнул, что я, «ваймэ», молился — доверился богу. И значит, глуп, как мать.
Когда же я добавил, что нашептал мне своё и бог, отец за меня испугался всерьёз.
И вот мне говорят, будто я неправ. Нам, мол, нашептали совсем иное. Но либо они не поняли этого шёпота, либо шепчущий издевается. Либо же он хочет крови.
А ещё может быть, — сам не знает, где истина: океан клякс превратился уже в потоп. Неостановимый, как незнание.
Идёт борьба за нового человека, глупый американец! Борьба со всеми, кто нового не желает.
Кто в день ленинских похорон «по ошибке» даёт в эфир цыганскую плясовую. А после сообщения о приговоре троцкистам — шопеновский траурный. И в этой борьбе, глупый писатель, приходится не только строить, но и защищаться.
Проливать кровь.
20. В любви мужика следует уважать за любовь…
— Вот она где, Иосиф вы мой Виссарионович! — заговорила вдруг Валечка обнявшим меня голосом. — Вот она куда кровушка-то вся прибежала, бедненький вы наш! — и подняла на меня теперь совсем уже мутный взор. — А удача-то, господи, какая!
Каждый раз меня забавляло, что она одновременно жалела меня и ликовала, когда я терял над собою контроль. Сейчас, однако, я не мог ума приложить — как и почему случилась «удача»?
Без потери контроля над собой.
Несмотря на такой изнурительный день. И эти рассуждения.
И главное, сегодня мне — впервые в жизни — уже 70!
Быть может, мои чресла решили ослушаться головы и ликуют вместе с народом, хмыкнул я. Либо же наоборот — паникуют, как паникуют во сне чресла младенцев.
Я бы ответил на вопрос не так скомканно, но спешил к Валечке: моё сознание съёжилось перед броском в старый омут удачи.
Валечка — сквозь полуприкрытые и дрожащие веки — смотрела на меня глухим взглядом. Дрожали и губы — вспухшие и покрасневшие, как от пчелиного укуса. Потом они что-то зашептали.
Смысл дошёл до меня, когда она приподнялась с колен и принялась расстёгивать мне на кителе нижние пуговицы. Я укорил себя за недогадливость, опустил руки к брюкам и расстегнул ремень.
Потом мы поменялись: я занялся кителем, а она брюками. Мне пришлось выбраться из кресла. Через мгновение, босой, я стоял у стола в кальсонах и в нательной рубашке с завязками.
Валечка, однако, хотя и дышала порывисто, стояла теперь недвижно, уткнувшись взглядом в ковёр.
Мне показалось, что её смутили внизу мои усы.
Ковёр принесли мне в подарок 30 лучших бакинских ткачих. Они вязали его три года, но поразил он меня не обилием красок, а длиной усов на вытканном портрете. Когда мастерицы раскатали его предо мной, я ужаснулся, но промолчал. Хотя ковры люблю.
Под моей грудью, обсыпанной жёлтыми цветами ширванской долины, светился синий куплет:
Это Сталин. Самый мудрый и великий человек.
Не рождал орла такого ни Кавказ, ни мир вовек.
Свет струится. Свет зари.
Нет, ты только посмотри!
Ничего не говори!
Что я и сделал. Заговорил только после длинной паузы. Твёрдо пообещал ткачихам, что «шедевр» будет передан музею.
Заметив же теперь Валечкино смущение, я решил не тянуть:
— Ковёр убрать завтра же! — и закрыл себе хорошей ступнёй правый ус.
Валечку, оказалось, смутило другое. Как только я это понял — приподнял ей подбородок и кивнул на блузку.
И тут она вдруг резко развернулась и отбежала к польскому шахтёру, возле которого стоял початый штоф «Арарата».
Через пару минут стало ясно, что коньяк понадобился ей по причине дотоле небывалой. Которая её как раз и смущала.
Ни под блузкой, ни под юбкой на Валечке не было ничего! Если не считать неожиданных сетчатых чулков и неожиданного же пояска из позолоченной тесёмки.
Тесёмка была перевязана на бёдрах и свисала пушистой кисточкой к золотистому же пушку под пупком. К моему вящему удивлению, растительность была подстрижена, а по бокам выбрита.
Меня кольнула догадка, что старшая хозяйка Валентина Васильевна Истомина копалась в моих ящиках. Где — помимо прочего — хранился каталог голых француженок с глупыми повязками и в бесстыжих позах.
Тот самый, который был конфискован у Вознесенского при аресте. Эту догадку я, однако, оттеснил подальше. Туда, где держал материал на несрочные темы.
И тотчас же, придвинув к себе Валечку, стал обшаривать ладонями её напрягшееся тело.
Отложенную догадку отложил я, видимо, недалеко.
Я редко целовал Валечку даже в шею, но теперь впился ей прямо в губы. Я бы не лез целоваться, если бы эта догадка не продолжала меня дразнить. А целоваться я не любил из-за чувства, что подходишь к женщине слишком близко. И недостатков не видишь. Вдобавок приходится подниматься на цыпочках. Тем более — без ботинок.
И вообще это — глупое занятие…