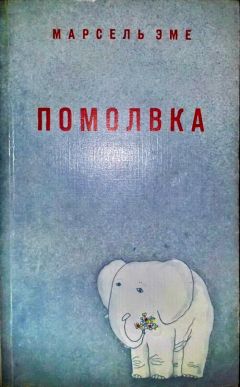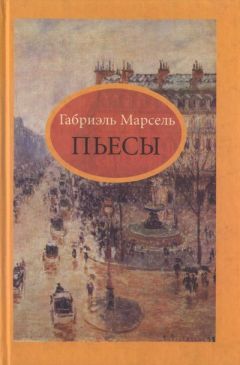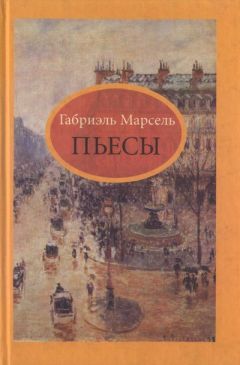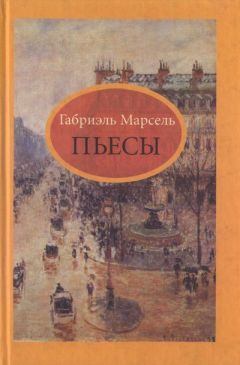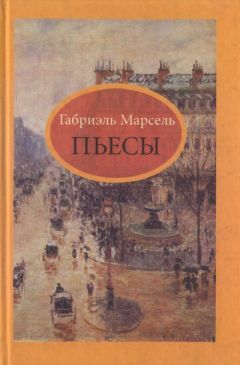Нодар Джин - Учитель (Евангелие от Иосифа)
Шолохов — хороший писатель, а американец — плохой. У того к тому же правые взгляды, а у Шолохова — правильные. Но иногда правильное тоже нуждается в исправлении. И я написал ему, что хотя «докатившиеся до садизма» будут наказаны, надо «видеть и другую сторону дела».
Мне, например, кажется, что у меня правильные взгляды. В те годы из вождей к золотой середине звал только я. Но в отличие от меня, революция не терпит ни середины, ни здравого смысла. И толкает на грубость.
Революция исправляет правильные взгляды.
В 29-м мне, как и сегодня, справляли юбилей.
В том же году судьба государства повисла на волоске. Правда, Барбюс, французский писатель, поднимая за меня тост, сказал на банкете, что новая Россия ему кажется очень сильной. Я подождал пока он допил до конца и улыбнулся: «Что, товарищ Барбюс, удалась мне страна, да?»
Мне тогда исполнилось полвека. Отставали же мы от мира на целый. Но нас всё равно опасались. Ибо голодных на свете большинство, а большинство — грозная сила. До нас с бедными обходились везде просто: глушили их водкой и иногда писали о них стихи.
Но теперь уже у бедных появилось государство. С водкой и стихами. И со своими же слезами; в том числе — счастья.
На том же банкете кто-то подвёл к микрофону маленькую девочку. Чуть старше моей Светланы. И положил перед ней бумажку с текстом речи.
Барбюс сидел рядом со мной и вставлял слова, которые выдавали в нём тонкого «инженера человеческих душ». Поэтому я рассердился на моего секретаря Мехлиса. Который, наверное, заставил девочку выучить речь наизусть.
Но она так и не сумела произнести её. Постояла молча, а потом тихо спросила меня: «Можно я пока помолчу?»
Барбюс объяснил мне, что девочка волнуется. А я ему сказал, что она сирота.
Молчала долго — и в комнате стало очень тихо. А потом вдруг эта девочка снова посмотрела на меня. Теперь уже моргая. Как только дети умеют.
«Что?» — спросил я.
«А можно я поплачу?» — попросила она.
Мне стало её жалко. Захотелось подойти к ней и расцеловать. А потом дать пощёчину Мехлису.
«Только немножко!» — разрешил я.
И она начала плакать.
Барбюс объяснил, что это слёзы счастья. Я закурил и ответил, что кавказцы — как дети. У меня тоже, сказал я, сдавило в горле.
А про себя я подумал, что не зря живу.
И враги это знают. Враги боятся, что наши бедняки и сироты плачут от счастья. И враги думают так: пока, мол, того же не захотели все бедняки на свете, пока это государство не окрепнет, ему надо помочь сгинуть.
Мы это понимали — и торопились поднимать страну из дерьма. Но на голодный желудок, без хлеба, ничего кроме дерьма же в себе не поднимешь.
Я знаю что такое голод. Семь раз ссылали меня туда, где и волки от него дохнут. Годами голодал. И добывал пропитание ружьём. Волчатину стрелял.
Но однажды не смог. Старая волчица была. И увязалась за мной. Тоже хотела сбежать. Доверилась мне. Но я заблудился. И она, значит, тоже. Поэтому я и застрелить её не смог…
Но пять раз всё-таки бежал. Не от холода бежал, а от голода.
С той поры у меня всё внутри и ноет, когда вижу голодных людей. И злюсь. Как лишь волки умеют. Но волки — я видел сам — делятся пищей. Иной волк скорее перестанет быть волком, чем человек — человеком. Причём, волка ведь не заставишь это сделать. Он это сам.
Но я не о волке. Я о том, что с той поры всякий раз при виде сытых, которые не хотят делиться, меня тянет к ружью. А иначе с ними не прокормишься.
Хлеборобы вот и отказывались тогда кормить народ. Хотя сами были сытые. Не бесплатно ведь хлеб мы просили — за деньги. А они зерно сжигали — только бы нам не досталось. Или прятали. Или не засеивали. Или засеивали в обрез, — сколько хватало им.
Большинство — из злобы и вредительства. Другие — из упрямства, лености духа и тупости. Люди готовы скорей умереть, чем задуматься. Так и поступают.
Хотя в противном случае им было бы ещё хуже! Сейчас, когда я вынужден думать за всех, — теперь уже я не допущу, чтобы умеющие лишь умирать стали бы ещё задумываться.
Каждому своё. Одним думать, другим умирать.
Но люди умирают не от отсутствия мыслей. Умирают от голода. А умерший от него не может быть живее того, кого мы тогда расстреляли. Он может быть лишь невинней.
«Сталин! — кричали мужики. — Спляши лезгинку, — дадим тебе зерно!»
Я бы сплясал им и вальс, но эти мужики хотели только крови. И не щадили не только других людей, но и собственный скот! Забили в стране половину лошадей и коров. Подняли восстание. А мне — и в то же самое время — приходилось ведь поднимать из дерьма не только промышленность и село. Человека.
Ему всего не хватает, и живёт он только чтобы копить и ограждать собственность. Бога же, кому она принадлежит, он посылает в будние дни на фиг, а в воскресные обещает исправиться.
Спасение революции, последней надежды на человека, вынудило меня уйти от здравого ума. Потому я и не люблю человека. Если бы он не был какой есть, этого мне делать не надо было бы. Мы ведь тогда не просто человека из дерьма поднимали, но дерьмо из человека. А это трудно. До невозможности.
И пришлось внушить себе, будто невозможное отличается от трудного тем, что требует большего времени. Но кругом были враги, и невозможное приходилось вершить за время, которое здравому уму хватает только на лёгкое.
Здравым умом называют устоявшийся.
Ничто, однако, не устоялось в людях так, как дерьмо.
Здравый ум хорош когда ты смирился с этим и живешь по старинке. Но великие открытия совершает не он. Или великие дела. Бухарин отзывался плохо даже об экваторе. Но в одном был прав: я совершил величайшее чудо истории — изменил природу мужика.
Да, с помощью мечты и страха. И да, быть может, не навеки. Чтобы навеки — веками и работать надо. Но я показал, что это возможно. А мне показали, что даже на верном пути — если присяду перевести дыхание — затопчут.
И ещё. Всякая революция рождается в крови. Любое открытие сотрясает устоявшееся.
На Западе промышленная революция стоила крови. Но кто спорит с тем, что она была нужна? Кто льёт слёзы из-за пролитой тогда крови? Из-за того, что у этой революции не было времени ни для слёз, ни для того даже, чтобы хоронить своих же солдат.
Вы скажете: это было давно, сейчас — новые времена!
Не в России! В Англии крепостной порядок отменили полтыщи лет назад, а мои родители были крепостными.
А если — о том, что было давно, вспомните фараонов, которыми все теперь восхищаются. Потому, что кровь вокруг пирамид просохла. А я построил не пирамиды. Они никому не нужны. Даже фараонам.
Нас ненавидят не за кровь, хотя не мы проливать её начали. Нас ненавидят за победы. И боятся новых.
На все эти ваши вопросы, Шолохов, я бы ответил и раньше, но вы их не задавали. Вас интересовали только донские хлеборобы. Не сомневайтесь, садисты будут наказаны, но ваши хлеборобы не такие уж невинные. Всего хорошего — и вот вам моя рука!
22. Всё во вселенной от себя бежит…
— Иосиф, миленький! — всполошилась вдруг Валечка и выбросила назад, ко мне, руки. — Бери! Вот они, Иосиф!
Я схватил её руки — и через мгновение произошёл конец.
Спокойной реакции я научился ещё при Като. Мы с ней жили в коммуналке. Когда подступал конец, я сжимал зубы. При Като зубы у меня были свои. Теперь приходилось сжимать протезные. Но мысль — сразу после конца — осталась той же: «Придумает же природа!»
Что касается Валечки, она, если не сжимать ей руки, визжала бы так громко, будто главное в жизни — докричаться до Мао. Когда он не в Москве, как сейчас, а в Пекине. На артиллерийских учениях.
Пока она приходила в себя, во мне, тоже как всегда, поднялось отвращение. Вообще ко всему.
В том числе и к Валечке. Теперь уже я видел её насквозь. В прямом смысле. Глаза её видел без век — и они были отвратительны. Груди её стали комками жира с кровяными прожилками. А на брюхо с выбритым лобком я не взглянул из страха, что стошнит.
Она и сама чувствовала себя виноватой. Тем более, что сойдя с дивана на ковёр, наступила мне там на глаз:
— Иосиф Висарьоныч, — и принялась спешно одеваться, — можно я одену и вас?
— Откуда чулки? — ответил я.
— Это я Крылова просила, — пролепетала она. — Не нравятся?
— Шофёра?
— Его сейчас повышают.
— Откуда, говорю, — из Хельсинки?
— Нет, из Финляндии. Не нравятся?
Я кивнул ей на выход. Как всегда же, она всхлипнула, накрыла меня синим пледом, который подарил Черчилль, и убежала.
Пока прикрывала за собой дверь, из приёмника — в прихожей — протиснулся ещё один глупый куплет:
Враг недаром злится — на замке граница!
Не отступим никогда! Нету большей чести:
Остаёмся вместе в армии родимой навсегда-а-а…
Мне, однако, оставаться нигде уже не хотелось. Хотелось убежать. Несмотря на всплывшую в ноге боль.