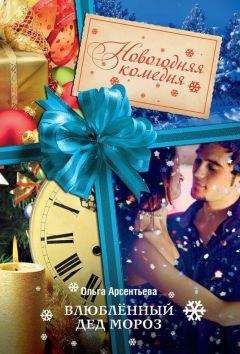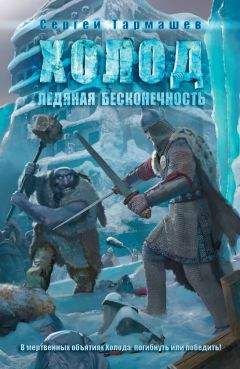Курилов Семен - Ханидо и Халерха
Путники все приближались и приближались к тордоху, а собачьего лая не слышали и из хозяев никто не показывался. Собак у Нявала могло и не быть, а высокий сугроб возле тордоха, наверно, скрадывал звуки. Решив, что отшельников можно застать врасплох, Куриль наконец сильно стегнул оленей. Пурама с Ниникаем тоже.
Голова хозяйки высунулась из сэспэ лишь тогда, когда все упряжки уже стояли наверху замети. Голова скрылась — и тут же перед тордохом появился Нявал. Старый, сгорбленный, бледный, он замер в полнейшей растерянности, вытянув шею, задрав кверху голову и растопырив локти полусогнутых рук. Он походил на идола, сделанного из коряги и зачем-то наряженного в старье. Во впалом беззубом рту шевельнулся язык.
— Приехали? — прошептал приветствие он.
— Да, — сухо ответил Куриль. В груди у него что-то лопнуло, будто рыбий пузырь под острым ножом. "Все. Ошаманил, сволочь…".
Пурама грозно откашлялся.
Ниникай, сдвинув брови, смотрел на скрюченного старичка, всерьез сомневаясь, Нявал ли это, не произошло ли ошибки. Ведь не двадцать снегов назад он в последний раз видел его!
А старичок вдруг стал зачем-то топтаться на месте и чесать рогулькой-пальцами косматую, пегую от седины голову. "Неужели голова у него может чесаться?" — мелькнула у Ниникая страшная мысль.
Нявалу же надо было вернуться в тордох — сказать, может, важнейшие в жизни слова, но обычай требовал бросить все и бежать на помощь гостям. Потому и топтался он.
— Может, Нявал тут не хозяин? — буркнул с грубым намеком Куриль. От хозяина проку было немного — он это видел, однако последний разговор с Ниникаем придал ему уверенности, да он и почувствовал, что надо как бы подавить все прошлое, взять верх над случившимся. — И снеговыбивалка нужна. А голову скрести будешь потом…
— Ке, эту самую — выбивалку… скорей! — немедленно постучал старик кулачком по ровдуге, а сам начал карабкаться вверх, обваливая сугроб.
— Вон добычу вашу собрали, — сказал Ниникай, показывая на кучу замерзших песцов. — Что не следите за пастями-то?
Но Нявал ничего не ответил и проковылял мимо богатства, даже не повернув головы.
Долго возились с упряжками — не владели окоченевшие руки, и от хозяина не было толку: он и отвык от оленей, и пальцы его были уже непослушными.
Потом кое-как, с трудом сбили с одежды сосульки и корки примерзшего снега.
Косчэ-Ханидо не появлялся.
Куриль на ногах съехал вниз и сразу же рывком откинул сэспэ.
Он увидел тлеющие угольки под черным, будто смолой облепленным чайником, увидел серую дырку онидигила, белые дырки в ровдуге, прикрытые снегом, облезлый полог, старуху возле пуора. Ну, а больше разглядывать было нечего. Да, у самого очага еще лежала доска с обгоревшим углом, а на ней возле кусочков юколы и мяса стояли кружки — две помятые, медные, третья из синей глины, щербатая. Видно, семья собиралась поесть перед сном. "Тут он, за пологом", — понял Куриль, определив число кружек.
Вошел Ниникай с тяжелой связкой песцов, за ним — Пурама и Нявал.
— Как живете? — спросил Куриль, с кряхтением подсаживаясь к очагу. — Места тут вроде песцовые, а вы что-то не разбогатели… Вижу, плохо живете!
— Дык, это оно… Нет, почему? — возразил старик, но тут же сбился совсем: — Дык, оно… это… плохо, конечно.
— Чаем не пахнет. При таких-то песцах на корнях брусники сидишь? Кипрей куришь?
Старик вместо ответа стал шептаться с женой, делая вид, что хозяйские заботы о гостях важней начала беседы.
— Далеко ли едете? — спросил он, схитрив и одновременно надеясь, что страхи его напрасны, что Куриль, может быть, ищет других людей — мало ли! — и что Ханидо больше не нужен ему.
Нявала смутил приезд Ниникая — чукче-то совсем вроде делать тут нечего.
Еще там, за тордохом, распрягая оленей, он успел понадеяться: конечно, Куриль со своим шурином набросятся на него и на сына, выскажут большую обиду, обзовут плохими словами, но с тем и уедут. Обратно-то все не повернешь! А что они обо всем случившемся знают — в этом он не сомневался: злыми приехали. Правда, он понимал, что ехать только за этим не было смысла, и тут у него шевельнулась надежда: а может, могучий Куриль вызволение какое придумал? Но эта мысль причинила лишь боль: нельзя вызволить ни Ханидо, ни их — отца с матерью. Так что лучше бы отругали да и уехали…
Куриль, однако, разом смял надежду хозяина и вместе с тем озадачил его:
— К тебе мы приехали! В гости. И надолго. Пока еда и наша, и ваша не кончится. А мы запасливые…
Он говорил не только для стариков — больше для Ханидо, держись, мол, мы напористые, все выведаем, и за нами сила.
А у Нявала задрожали старые ноги, и он как стоял возле пуора, так и опустился здесь на колени. Что хотят эти большие знатные люди? Мучить? Старых, бедных и жалких людей? Зачем это им?
Ниникай достал из кармана огромную плитку чаю, шагнул к хозяйке:
— Завари, эпэхэй [95]. Покрепче. Сильно промерзли.
Старушка, резавшая осколком ножа холодное мясо, еще больше согнулась, и Ниникай, положив чай на ящик, ушел. А она тут же радостно бросилась к очагу, начала шевелить угли.
Наступило молчание. Костер разгорелся, и при свете стало еще приметней убожество и жилища, и его жалкой утвари. Ниникай шагал туда-сюда возле драного полога и прислушивался. Глаза же его и даже его затылок видели старика, одного старика. И Куриль смотрел на Нявала, хотя делал вид, что смотрит в огонь.
На свете не бывает жалче людей, чем старики и старухи, принужденные трепетать, как дети, от страха, бессилия и беспомощности. Стоя на коленях, Нявал сгибался все круче и круче, пока не коснулся руками пола. Голова его свесилась — он совсем перестал походить на человека.
— Водки, думаю, принести надо, — сказал Ниникай.
— Да уж если у хозяина нет — придется нести. А Пурама пусть сходит за моей сумкой… — Куриль видел, что Нявал окончательно сломлен и что труда не будет узнать все до конца. — Ты, я вижу, Нявал, и людей стал бояться. Совсем одичал. А мы с добрым к тебе ехали. Сердитые оттого, что долго искали тебя, чуть не замерзли. А в сердце добро везли: в Улуро всех вас заберем. Садись к очагу — что стоишь на четырех костях?
— Э-э, Апанаа, мы больше не можем к людям вернуться, — поднял старик голову.
— Почему? Не проказой же вы заболели?
— Хуже чем проказой… Как сказать-то тебе? А как мне сказать?.. Плохо живем. Обкрутила жизнь, как сотней арканов, — руки, ноги, глотку, живот… — Нявал потихоньку сел на пол, свесив руки с коленей.
— Вот и послушаем. Поговорим. Бери табак. Совсем своего нету?
— Табак водился. Сейчас, правда, нет. Мы привыкшие — луна нынче Встречнева: терпим… Оно… обменять бы… поехать… оленя съели.