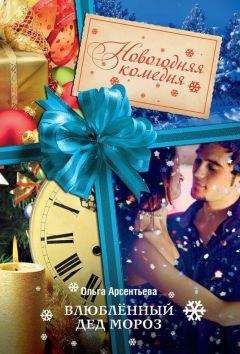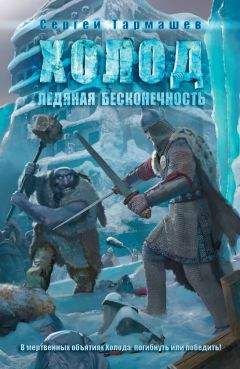Курилов Семен - Ханидо и Халерха
— Вот и послушаем. Поговорим. Бери табак. Совсем своего нету?
— Табак водился. Сейчас, правда, нет. Мы привыкшие — луна нынче Встречнева: терпим… Оно… обменять бы… поехать… оленя съели.
Нявал не от рождения был бестолковым, косноязычным Среди людей, таких же, как он, речь его не была слишком сбивчивой. А вот в разговоре со знатными, с богачами он терялся, лепетал невпопад, пытался при этом поправиться, путался, и лишь последние слова у него содержали смысл.
Старость должна была сделать его совсем забубённым, однако случилось чудо: он стал говорить лучше. То ли на все на свете махнул рукой — все равно помирать, то ли к детству своему возвратился, когда не надо было следить за собой. Сейчас он хотел говорить просто и ясно, только разговор был страшно тяжелый, и он путался.
— …От терпимой-то жизни кто бы куда убежал!.. — услышали Ниникай с Пурамой, когда вернулись в тордох. — Душила жизнь, хоть аркан за кочку привязывай, а петлю — на шею.
Пухлыми пальцами Куриль медленно скреб мысок лысины на своем лбу.
Развязывая мешки, Пурама с Ниникаем переглянулись: ага, Куриль-то уже хлебает грязную воду!..
— Ну, а здесь? Здесь-то море недалеко, зверь морской, песец хороший идет, — поспешил повернуть разговор Куриль. — Сын молодой, сильный. Почему плохо-то жить?.
— Дык, оно… как сказать?
— Где Косчэ?
— Тут, за пологом…
— Заболел?
— Нехорошо ему… нынче… С утра…
— Поправится? Или надолго слег? А то я за ним и приехал. Как обещал: в обучение отдаю. Поп его ждет…
— Э-э… Апанаа, Апанаа… Что говоришь! Куда он годится. Сказал бы, что силачом или бегуном хочешь выставить, и то бы это… ну, как сказать, — зря. А к божьим делам кто допустит его? Поп его ждет… Что смеешься, Апанаа? Знаешь ведь…
— Не всем слухам я верю, — сказал Куриль. — Говори. От отца услышать хочу.
— Скажу, а ты в глаза плюнешь. Дык… оно… и стоит плюнуть-то… Не сумели мы уберечь сына, порушились все большие надежды твои на него. Откажешься ты от нас, уедешь ни с чем. А мы уж тут… с медведями белыми… по соседству останемся… помирать… Такая судьба. Не сумели мы…
— Ты, Нявал, что-то слишком длинную нитку тянешь! — зло оборвал его Пурама, ставя на доску бутылку.
Нявал легонько вздрогнул, выпрямился. Уставившись прямо в глаза родственнику головы и цапнув себя рукой за грудки, он сурово, но чуть не плача заговорил:
— А ты, Пурама, в такой вот облезлой шкуре ходил? Ты кишки прошлогодние ел? Тебе-то помереть не дадут: сам просить из гордости не пойдешь, дык жена попросит. Тебе пришлют мясо. А мне? Кто мне должен? Никто!
— Они помолчать должны, когда я слушаю, — сказал Куриль Пураме, сказал, однако, не очень сердито, понимая, что рычать ему просто нельзя. — Чего торопить, куда нам спешить? Только и ты, Нявал, не про то говоришь, о чем спрашиваю.
— Про то говорю я, про то! — не испугался старик. — Ладно сказать не умею, а как я скажу и ладно, и быстро, если кругом все было неладно! С чего не знаю начать. Языку тяжело, силы нету и так говорить, как могу…
Из узеньких глаз старика выползли слезы. Но он не всхлипнул, не вытер носа. Куриль сделался хмурым и начал скорей разливать водку.
— Хозяйка, — сказал он, — выпей иди.
Жену Нявала Ниникай тоже ни за что не узнал бы, повстречайся она в чужом стойбище. Лицо ее стало темным, морщины углубились, и кожа теперь походила на кору старого дерева. Руки у старухи сильно дрожали: Пурама передал ей кружку, и водка стала выплескиваться через края. Ниникаю было невмоготу глядеть, как она жадно, неряшливо пьет.
Старик Нявал выпил бесстрастно и не поморщился, не обтер губ, будто не заметил горечи водки.
Не ополоснув кружек, старуха начала разливать чай. Но руки у нее дрожали еще сильней, и струя куда надо не попадала.
— Эпэхэй, не принимай на сердце обиду — давай я тебя заменю, — сказал Ниникай. — Нездорова ты.
— Значит, вот, Апанаа, — тихо заговорил Нявал, опустив голову. — Приготонься услышать самое плохое, о чем ты даже не думаешь… Ну, шаман Косчэ, шаман! — поднял он в отчаянии глаза. — Давно шаман. Только это не все… Это — ладно, это… так вышло. Язык отвалится, если дальше скажу.
Старуха неожиданно бойко вскочила, метнулась к пуору, упала, сжалась под самой ровдугой в комочек и тонкотонко заголосила.
А за пологом что-то решительно зашуршало — и все три гостя вздрогнули, услышав громкий звон бубна. Протяжная, на чукотский манер, песня разлилась по тордоху. Но песню эту вдруг заглушил отчаянный стук колотушкой, стук со звоном и треском об обруч.
Куриль увидел побледневшие лица Пурамы и Ниникая, а те увидели побледневшее лицо Куриля.
Пурама вскочил на ноги. Никто не успел опомниться, как он с силой рванул полог и отшвырнул его в сторону. Ниникай тоже вскочил. Увидев босого, косматого, широкоплечего парня с бубном и колотушкой в руках, Куриль отвернулся и с горя закрыл ладонью глаза. Визгливо закричала старуха; бубен, кажется, полетел почему-то вверх и со звонким стоном ударился о каркас; тордох заскрипел; раздалось хрипение троих мужчин: Косчэ, Пурамы, Ниникая.
Схватка продолжалась недолго: Пурама хорошо знал слабости ученика, хотя уж и не был очень силен, а вот Ниникай хотя и не знал, на что способен молодой богатырь, зато был силен и горяч. И вдвоем они ловко справились с лихим дикарем.
Куриль оглянулся, когда Косчэ лежал на полу со связанными руками и ногами. Он успел догадаться, откуда появился ремень, — его спутники все предусмотрели, ко всему приготовились, и эта решительность их очень обрадовала бы его, если бы не отвратительный вид Косчэ, заставивший ни о чем хорошем не думать. Ниникай приподнял связанного, чтобы он не лежал, а сидел, и Куриль получил возможность глянуть прямо в лицо своему счастью и своей беде. А лицо это мерзко кривлялось. Косчэ подражал Каке — он скалил белые зубы, стараясь обнажить десны, он разводил глаза врозь, морщился; и еще он чем-то походил на уродливую Тачану — может быть, длинными растрепанными косами, или нет — это Тачана походила на мужика, а теперь он на нее… Кровь ударила Курилю в голову: "Да зачем он мне нужен такой! Плюну, уеду. И погода хорошая. А попу привезу Сайрэ. Скажу, что у обещанного ста рики заболели. С Какой рассчитаюсь потом…" Он хотел отвернуться, но увидел, как связанный Косчэ повалился на бок и как в следующий момент Ниникай ударил ногой вроде бы в его руку или в бок. И только блеснувший на лету нож объяснил, что случилось. "Ого, нож припас. Кого ж он хотел ударить — себя, меня, Пураму?"
Однако происшедшее говорило слишком о многом, и мысли Куриля круто переменились. Шаманство, выходит, только прикрытие! Дело не в бубне. А в чем? На каком слове Косчэ оборвал отца?..