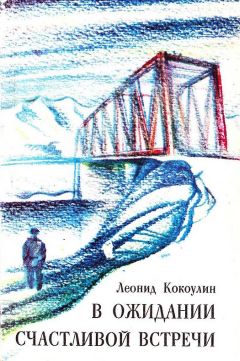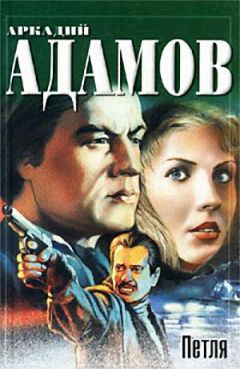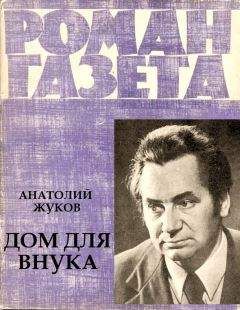Наталья Парыгина - Вдова
Но и на этот раз не внял ее мольбам бессмертный властелин мира. В дождливый осенний день, острой болью, как клеймом, навсегда отпечатавшийся в памяти, получила Дарья похоронную.
С черной кожаной кошелкой, купленной еще до войны, Дарья медленно поднималась по лестнице. С завода зашла за хлебом — показалось ей, что Мите недовешивают хлеба, решила сама брать. Вот и площадка... Дарья постучала в дверь.
— А у нас письмо! — закричала Нюрка, едва мать переступила порог.
— В конверте, — приглушенно-дрожащим голосом проговорил Митя. — Ты не велела распечатывать.
В конверте... Василий ни разу не присылал в конверте, всегда свертывал треугольником. Значит, не от него. Дарья в мокрых ботинках кинулась в комнату, оставляя на полу грязные следы.
По столу небрежно были раскиданы Митины учебники и тетрадки. Дарья спешно обежала взглядом стол, но не увидела письма.
— Да где же... — нетерпеливо начала она.
— На окошке, — перебила Нюрка, остановившаяся в дверях.
Дарья обернулась к окну. На подоконнике лежал серый конверт. Еще не взяв его в руки, Дарья разглядела внизу цифры. Полевая почта. С фронта.
С конвертом в руке Дарья медленно опустилась на стул. Митя и Нюрка остановились по другую сторону стола и смотрели, как Дарья отрывает от серого конверта неровную полоску.
— Может, это из госпиталя, — сказала Дарья. — У госпиталя тоже полевая почта.
— Даниловы на прошлой неделе получили такой же конверт, — сказал Митя. — С похоронкой.
— Молчи! — крикнула Дарья.
Дрожащими пальцами она выдернула из конверта маленький листок. И первое, что увидела, — четко, как на могильной плите вписанную чернилами между печатных слов фамилию «Костромин». Костромин Василий Павлович пал... смертью храбрых...
Странный черный туман надвинулся на Дарью, окутал ее, отгородил от всего мира. Все пропало в этом тумане: стол с Митиными тетрадками, залитое дождевыми струями окно, сын с его настороженно-робкими глазами, понурая Нюрка, неровно надорванный конверт... Осталась Дарья один на один с чем-то новым, непоправимо страшным и еще не осознанным, тянулись из тумана невидимые костлявые руки, хватали ее за горло, сжимали, душили, и уже нечем ей было дышать... Еще несколько мгновений — и задохнулась бы.
— Мамка! — крикнула Нюрка, испугавшись мертвенной бледности лица Дарьи.
Этот отчаянный крик охолонул Дарью, словно выплеснутый в лицо ковш воды. Дарья до боли в скулах стиснула зубы, выпрямилась на стуле. Хотела что-то сказать, но зубы не разжались, казалось, никогда они теперь не разомкнутся и не сможет Дарья заговорить. «Про Варю больше не надо врать, — с холодным спокойствием, почти с облегчением подумала Дарья. — А то все боялась, что буду говорить, когда воротится Вася...»
— Дай, — требовательно сказал сын и, встав рядом, потянул у Дарьи из рук письмо.
Она держала крепко, не читала и не отдавала, и едва ли понимала, чего добивается Митя.
— Дай, мама, — повторил Митя.
— Убили нашего папку, — тихо, отчужденно проговорила Дарья. И во весь голос, испугав детей, надрывно выкрикнула: — Ой, убили! Ой, убили!
Она обхватила сына руками за плечи, припав лицом к его худенькой жесткой груди, и в голос зарыдала. Нюрка, все так же стоя по другую сторону стола, тоже заревела.
— Ой, сироты вы мои разнесчастные, — с причитаниями рыдала Дарья, — нету у нас батьки, настигла его пуля фашистская... Ой, горе мне... Васенька ты мой милый, родной ты мой...
— Пусти, — сказал Митя.
Он попытался высвободиться из материных рук, крепко стиснувших его двумя кольцами, но не смог. Тогда Митя присел и выскользнул из ее объятий. Дарья кинула руки на стол, упала на них головой и рыдала, сотрясаясь всем телом.
Она все еще сжимала в пальцах известие о гибели Василия. Митя потянул его из рук матери, и на этот раз она отдала. Мальчик встал у окна и в сумерках прочел все: «...пал смертью храбрых. Похоронен у села Каменка...».
Дождь лил и лил, упругие струи резиновыми жгутами бились в окно, торопливо бежали по стеклам, журчали, падая из желоба в бочку. Сквозь сумерки и дождь ничего не было видно, но Митя напряженно всматривался в серую мглу, будто хотел разглядеть в дальней дали неведомую Каменку и мертвого отца, и могильный холм. «А там сейчас тоже дождь или нет?» — подумал он.
Рыданий матери уже не было слышно, и Нюрка умолкла, тягостная, жуткая стояла в комнате тишина. Митя знал, он почти физически чувствовал, как матери сейчас тяжело, но не подходил к ней, глядел на бегущие по темному стеклу дождевые струи и слушал шум дождя, безвольно отдавшись охватившему его оцепенению. Он всем своим существом был с отцом, с полузабытым за годы разлуки человеком, совсем особенным и бесконечно близким человеком, которого уже нет.
Тихие шаги послышались позади. Митя стоял в прежней позе, не шелохнулся, не повернул головы, он хотел сейчас оставаться наедине с отцом, наедине со своим первым взрослым горем.
— Митя, — тихо сказала Нюрка, — я ись хочу.
— Дура! — крикнул Митя.
Нюрка тихо всхлипнула.
— Папку убили, а ты: ись!
Но он сам вдруг почувствовал сосущий голод и пожалел Нюрку. Она прислонилась к стене и беззвучно плакала, вздрагивая худенькими плечиками. Митя опять отвернулся к окну. А мать сидела все так же неподвижно, не зажигая света, в тиши и сумраке, не замечая детей, одна со своей печалью.
Трое их осталось, и все сейчас были врозь, словно Василий оттуда, издали, с фронта, прежде невидимо держал за руки детей и Дарью и соединял в одно, а теперь не стало его, выпустил он их руки из своих ладоней, и они сразу отдалились, поодиночке переживая беду. Знала Дарья, что надо бы пожалеть и утешить детей, но не было у нее сил и не было слов. «Убили Васю... убили... убили», — беззвучно шептала она.
Неодолимой тяжестью навалилась на нее тоска, сковала, подмяла, лишила воли. Сидела Дарья в темной комнате, стучал в стекло дождь, Нюрка тихо всхлипывала. Неизвестная Каменка, деревня, похожая на Леоновку, представилась Дарье, братская могила, Василий без гроба, с другими павшими солдатами в этой могиле. Может, неловко лежит, рука подвернулась либо голова запрокинулась... Ничего не поправишь теперь. И все равно ему.
И вдруг ясно, трезво представила себе Дарья долгие одинокие годы, какие придется ей жить с пустотой в сердце, без ласки и помощи. Одной работать, одной детей растить, одной ночи долгие тосковать. Надвое раскромсал ее жизнь малый листочек в сером конверте, счастье минувшее отсек. Не от кого больше ждать писем. Не для чего ждать конца войны. Ребятам расти безотцовщиной. Мне вековать вдовой.
Дарья тяжело, будто разом постарев на десяток лет, поднялась со стула. Всего горя зараз не перегорюешь. Надо жить.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ВДОВА
1
Девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года воздвигала история завершающий рубеж на самой кровавой из войн. Последние языки адского пламени, поглотившего миллионы жизней, затоптал советский солдат на мостовой того самого города, где раздувал его фашизм в безумной надежде покорить мир.
В Серебровск возвращались демобилизованные фронтовики. В декабре приехал из госпиталя Михаил Кочергин. Настя, обалдев от радости, носилась по Серебровску, созывая гостей. Не умела она радоваться в одиночку. Да и Михаилу не терпелось увидеться с прежними друзьями.
Дарье не хотелось идти к Кочергиным. Чужое счастье не радует, коли своего нету... Но посовестилась Настю обидеть. И на людях давно не была. Подумала: «Сижу, как мышь в норе, одичала вовсе». И пошла.
Время для начала пира Настя выбрала раннее, только чуть начало смеркаться. Дарья осторожно шла по обледеневшему тротуару, полуботинки скользили, того гляди шлепнешься... Вдруг неизвестно с чего — может, оттого, что шла к вернувшемуся с войны фронтовику, вспомнился ей День Победы. Солнечный был день, люди все повысыпали из домов, целовались и плакали, музыка играла, радость мешалась с горем, праздник был и поминки... Да вот и сейчас: к Насте вернулся, а мой-то... Мне не дождаться.
Невдалеке от барака, в котором жили Кочергины, увидала Дарья высокого человека в офицерской шинели и с палочкой в руке. Человек прямо держал голову, шел осторожно и палочкой нащупывал дорогу. Наум Нечаев. Незрячим вернулся с войны. Да что ж его Ольга одного отпустила?
Но тут как раз стукнула дверь барака, и вышла Ольга. И она была в шинели. Дом Нечаевых сгорел во время войны, вещички еще до того порастащили соседи. Выделил директор завода двоим фронтовикам комнатку в бараке, разрешил взять из заводского общежития во временное пользование две койки, два стула и стол. С тем и начали заново строить мирную жизнь.
Дарья подождала Ольгу, взяла за локоть.
— Что ж не вместе идете? — кивнув на Наума, который шагах в пяти перед ними постукивал своей палочкой по обледеневшему тротуару, спросила Дарья.