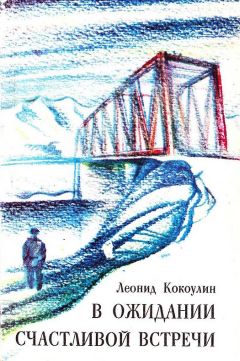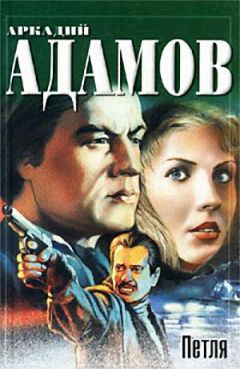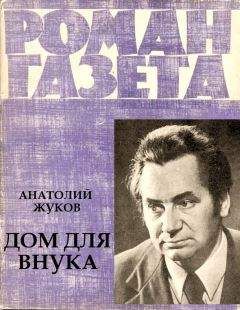Наталья Парыгина - Вдова
— Помогайте! — кричала Шурка, ухватившись за гаечный ключ обеими руками.
Ставила Дарья на ключ руку рядом с Шуркиной рукой.
— Взяли! — орала Шурка, напрягаясь всем телом.
Не поддавался ключ.
— Ах ты, гад! — яростно кричала Шурка и добавляла крепкий мат.
— Как у тебя язык-то поворачивается! — возмущалась Ксения.
— А вот так!
И крепче прежнего выдавала ругательство.
— Холера ты окаянная, — журила ее Дарья.
Но зла у нее на Шурку не было. Жизнь у девчонки суровая. Ей бы в школу с книжками бегать, в лапту с подружками играть.
— Взя-ли!
Дарья с Шуркой разом, свыше сил напружинившись, рванули ключ. И повернулся!
— Ага! — торжествующе взревела Шурка. — Пошел. А то — не матерись. Да мат ему вместо смазки... Ты, тетя Ксения, ни разу, что ли, не материлась?
— Не осквернила уста свои, — смиренно сказала Ксения.
Шурка захохотала.
— Такую скучную жизнь прожила!
Шурка обедать бегала в столовку, а Дарья с Ксенией приносили из дому по кусочку хлеба, холодную картошку в мундире да темную, крупными кристалликами соль. Устраивались на перевернутом ящике либо на штабеле досок, ели не спеша, запивали водой из бутылок.
Завод опять напоминал стройку. Многолюдный стал и шумный, часто мелькали среди кофт и платков солдатские гимнастерки — возвращались в город раненые фронтовики, а иных и здоровых отпускали из армии по просьбе завода за крайней надобностью для производства.
Дарья споро управилась с едой, все она привыкла делать быстро, не тратя лишних минут, а Ксения все жевала свою картошку, вяло, тяжело двигая челюстями. День выдался солнечный, но не жаркий, лето уже заметно приближалось к концу. В прошлом году в эту пору ходила по ягоды да по грибы. Вспомнился сибирский лес ласковым шелестом листвы, веселым звоном кузнечиков, кружевными тенями на траве. С Василием бы по лесу-то побродить...
Ксения как подслушала ее мысли.
— Все об Василии небось думаешь?
— Как не думать? — согласилась Дарья. — Две жизни в одну сошлись, а война опять их располовинила.
— То-то! А мой мужик давно в земле, не об ком горевать. Да и живого его добром не вспомню. Кулаком ласкал, синяки не сходили... Только и узнала спокой, когда помер. Тебя не бил мужик?
— Василий-то? Что ты...
— «Что ты...» Удивилась даже. А я вот при моей жизни на других удивляюсь. Которые в ладу живут. Которые от любви голову теряют. Ты хоть тут сидишь с ребятами, писем ждешь. А другая ведь на фронт, под пули лезет, лишь бы к нему ближе быть. Дура! Только даром ребеночка загубила.
— Про кого ты?
Ксения сжала тонкие губы, остужая себя от непривычной горячности. Но тянуло ее на разговор, надоело молчать, чуть не всю жизнь молчком прожила.
— Про Ольгу я. Про Нечаеву.
— У Ольги не было ребеночка, — не сразу сообразив, о чем речь, возразила Дарья.
— Не было, — согласилась Ксения. — А мог быть. Теперь бы уж на своих ножках ходил. Нет! Прибегла в больницу, плакала перед докторшей. Должна я на фронт ехать. Не могу я сейчас дите родить.
Дарья с пристальным недоумением разглядывала Ксению, не зная, верить ли ее словам. Ольга наяву и во сне грезила ребеночка родить.
— Откуда ты знаешь?
— Я в соседнем кабинете полы мыла, весь разговор слыхала. «Что ты, — докторша ей говорит, — что ты, столько лечилась, столько дожидалась радости, а хочешь убить ее...» — «Дожидалась, — Ольга ей, — а теперь не могу родить, теперь я воевать должна. Наум на фронте, и я должна быть на фронте, одному делу служить. Потому, говорит, люблю я его». Вот какая любовь... Хуже сумасшествия. Понимаешь ты такую любовь?
Дарья промолчала. Мелькнула вдруг в ее памяти давняя картина: барак — столовая, сырость, полутьма, запах прелой капусты, и у стола — понурая, растерянная Ольга, неизвестно где обронившая карточку. Кто бы угадал тогда, какая стойкая душа вызревала в полуграмотной деревенской девчонке, какая страсть к жизни крепла в ней? Наум Нечаев разглядел первым. И за то платила ему Ольга любовью, готовой на самую страшную жертву.
— А Наум знал ли про ребеночка?
— Не знал, — сказала Ксения. — Спросила ее докторша, знает ли муж. «Нет, — говорит. — У него тридцатого июня день рождения, к этому дню я тайну берегла, а тут — война». И про то сказала ей докторша, что вряд ли будут потом дети. Никаких слов не послушала.
— Ксения, а правда ли говорят, что ты можешь аборты делать?
Недобрая ухмылка пробежала у Ксении по губам:
— Ай потребовалось тебе?
— Нет. Так просто.
— Вот потребуется — тогда приходи. А так на что пытать.
Ксения первая поднялась, тяжело передвигая ноги в старых, стоптанных ботинках, направилась в цех. Дарья пошла следом.
Безжалостно выматывал силы завод. И Дарья не щадила сил, где бы можно сберечь — не берегла, ему отдавала, детищу своему железно-кирпичному, чтобы скорее встал на ноги. А у самой, когда шла с завода после смены, подкашивались ноги.
Ребятишки подросли, с грехом пополам хозяйничали. Митя на Нюрку покрикивал:
— Ставь тарелки на стол, обедать будем.
Дарья опускала ладонь на круглую Митину голову:
— Хозяин ты мой вихрастый...
Митя хмурился. Дела он исполнял взрослые, а хвалила мать, как ребенка...
Нюрка молча, серьезно расставляла тарелки. Дарья редко ласкала Нюрку. Почему-то меньше, чем Митю и Варю, любила ее. И девочка каким-то чутьем это понимала.
Дарья с вечера отделяла ребятам продукты на обед: полстаканчика крупы, несколько картофелин, сама наливала в кастрюлю воды. Вроде бы густая должна быть похлебка, а тут — крупинка крупинку не догонит.
— Митя, ты всю ли крупу спустил в суп?
— Всю, — глядя в тарелку, кивнул Митя.
Нюрка выдала брата.
— Мы только маленечко сырой поели, — виновато проговорила она. — Только маленечко!
— Эх, вы...
Чесался у Дарьи язык отругать ребят как следует, но не дала ему воли. Пожалела Митю с Нюркой. Впроголодь живут. Хлеба досыта не видят. Когда конфеты по карточкам получишь, сами просят:
— Поди, мамка, продай конфеты на базаре, а хлеба купи.
Молча черпала Дарья оловянной ложкой жидкую похлебку. Митя первым кончил есть, встал из-за стола, за спиной матери тихо сказал:
— Мы больше не будем, мамка.
Радио Дарья не выключала ни днем, ни ночью. «С тяжелыми боями...», «Преодолевая упорное сопротивление противника...», «Героически сражаясь с врагом...». Смерть и кровь, кровь и смерть виделись Дарье за каждым словом о войне.
Много еще городов под немцем, конца не видать войне. Многие женщины стали ходить в церковь, молились, с просьбами шли и с горем шли. Но бог равно был жесток и к тем, кто верил в него, и к тем, кто не верил. А может, не властен над людскими судьбами.
Дарья не ходила в церковь. Спорила с женщинами, как, бывало, с бабкой Аксиньей спорил Василий. Выйдет Дарья в сумерки посидеть на лавочке, поглядеть на Серебровку и расстилающиеся за нею поля и услышит от кого-нибудь:
— Надо завтра в церковь сходить, за здравие фронтовиков наших помолиться.
Дарья резко обертывалась на голос.
— Не от бога зависит их жизнь. От пули фашистской. От мины, гранаты, бомбы, снаряда...
— Захочет — и отведет смерть от человека, с кем милость его...
— От одного отведет, а на другого наведет. Если всемогущий да милосердный — на что допустил войну эту бесчеловечную?
— За грехи наши наказывает, — вздыхали старухи. — Господь покорности ждет от людей.
— Покорности! На что ж ему моя покорность? — едко говорила Дарья. — Сотворил человека гордым, а после гнуть начал. Чтобы властью своей натешиться, что ли?
— Не богохульствуй, Дарья. Не простит тебе бог.
— Отстаньте вы от меня со своим богом, — вдруг сникнув, устало проговорила Дарья.
А ночью, во тьме, терзали ее бессонница и страхи. И уже казалось — есть он, есть, таинственный и непонятный, с жестокими своими законами, с причудами. Каялась Дарья, что вступила с бабами в спор. Пусть думают, как хотят. Наговорила невесть что. Вдруг и вправду озлится вездесущий и нашлет на Василия погибель? Ни за кого Дарья не боялась, ни за себя, ни за детей, все беды в одной стороне мерещились — на фронте, где Василий. И уж хотелось Дарье просить у бога прощения. И просила.
— Господи, прости, — шептала, глядя в темный потолок, — прости меня, бабу бестолковую, сохрани в живых Василия, отведи от него смерть железную... Господи, прости...
В церковь не шла. Если бог вездесущий, так и без попа услышит, что он, поп-то, вроде переводчика, что ли... И перед Василием стыдилась. Далеко он, не узнает, а все же вышло бы против его воли, если б молилась Дарья по-настоящему, в церкви. Коммунист Василий. Нельзя жене коммуниста в церковь ходить. Ночью же, в темноте, в тишине, нарушаемой лишь сопеньем спящих детей, Дарья иногда униженно просила бога за мужа-коммуниста.